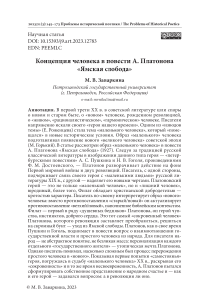Концепция человека в повести А. Платонова «Ямская слобода»
Автор: Заваркина М.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В первой трети XX в. в советской литературе шли споры о новом и старом быте, о «новом» человеке, рожденном революцией, о «живом», «рационалистическом», «гармоническом» человеке. Писатели напряженно искали своего «героя нашего времени». Одним из «изводов темы» (Е. Роженцева) стала тема «маленького человека», который «помещался» в новые исторические условия. Образ «маленького» человека подготавливал появление нового «великого человека» советской эпохи (М. Горький). В статье рассмотрен образ «маленького человека» в повести А. Платонова «Ямская слобода» (1927). Следуя за традицией русской классической литературы в изображении данного типа героя - «петербургскими повестями» А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, произведениями Ф. М. Достоевского, - Платонов разворачивает действие на фоне Первой мировой войны и двух революций. Писатель, с одной стороны, подчеркивает связь своего героя с «маленькими людьми» русской литературы XIX в., с другой - наделяет его новыми чертами. Платоновский герой - это не только «маленький человек», но и «лишний человек», юродивый, более того, Филат обладает христианской добродетелью - кротостью характера. Писатель по-своему интерпретирует образ «нового» человека: вместо противопоставления «старый/новый» он актуализирует противопоставление «ветхий/новый», наполненное библейским контекстом. Филат - первый в ряду «душевных бедняков» Платонова, он герой чувства, инстинктов, доброго сердца. Это тот самый «сокровенный человек» Платонова, которого революция заставляет преобразиться, решиться на скромный бунт - уход из Ямской слободы. Платонов, как в свое время Пушкин и Гоголь, поднимает в повести вопрос о взаимоотношении государственной власти и простого человека из народа. Для писателя народ - не абстрактное понятие, не безликая масса: персонализация каждого отдельного «государственного жителя» - утопическая мечта Платонова. Однако писатель понимал, насколько сложным был процесс перерождения простого человека в «нового». Показывая первые попытки «самостоянья» героя, погружаясь в судьбу «маленького человека» XX в., раскрывая его «сокровенность» и в то же время несвоевременность, А. Платонов пытался сформулировать собственное представление о народном счастье и - как и его герой - задавался вопросом: а в революции ли оно.
Платонов, ямская слобода, повесть, маленький человек, лишний человек, юродивый, сокровенный человек, ветхий человек, новый человек, великий человек, революция, бунт, пасхальный хронотоп, пасхальный сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/147241439
IDR: 147241439 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12783
Текст научной статьи Концепция человека в повести А. Платонова «Ямская слобода»
П овесть «Ямская слобода» была написана А. Платоновым в августе 1927 г. и опубликована в 11-м номере журнала «Молодая гвардия»1. Это одна из пяти повестей, созданных писателем в конце 1926-го — середине 1927 г.: «Эфирный тракт», «Епифанские шлюзы», «Город Градов», «Сокровенный человек», «Ямская слобода»2. Выбрав жанр повести, писатель по-разному наполнил «память жанра» (М. М. Бахтин): от элементов фантастики («Эфирный тракт») и фактов исторического прошлого («Епифанские шлюзы») до актуальной в те годы темы борьбы с бюрократией в новом советском государстве («Город Градов») и темы гражданской войны («Сокровенный человек»). В повести «Ямская слобода» Платонов обращается к теме Первой мировой войны и России накануне и во время двух революций, т. к. действие длится с июля 1916 до конца 1917 г.3 Согласимся с В. А. Свительским, что повесть «Ямская слобода» — это «предыстория платоновского героя. Автор на время становится бытописателем, чтобы раскрыть один из ликов российской жизни до революции и обосновать логику происшедших в 1917 г. перемен. Рисуется то, что совсем недавно стало прошлым» [Свительский: 17].
Замысел повести сформировался у Платонова еще в Тамбове. 26 января 1927 г. он писал жене: «Думаю засесть за небольшую автобиографическую повесть (детство, 5–8 лет, примерно)»4. В комментариях к письму сказано, что, скорее всего, писатель имел в виду повесть «Ямская слобода»5. По мнению Е. Роженцевой, «воспоминания детства были лишь одной из причин, побудивших писателя к созданию» произведения. Другая причина — «современный литературный контекст» [Роженцева, 2016: 665]. Именно в это время в советской литературе шли споры о новом и старом быте6, о «новом» человеке, рожденном революцией7; споры о «героизации героя»8, о необходимости изображения «живого», «гармонического», «рационалистического» человека9 и т. п. Новая советская литература напряженно искала своего «героя нашего времени»10. Как писал один из современников:
«В нашей современной (и уж особенно пролетарской) литературе наш современный (и уж особенно пролетарский) читатель будет искать не Онегина и не Печорина, а того героя, который <…> изо дня в день выполняет свою революционную миссию с настойчивостью и решимостью, какие только и могла родить наша эпоха»11.
В поисках нового «героя времени» «одним из "изводов" темы», — пишет Е. Роженцева, — «стала тема "маленького человека" в истории, которую в 1926–1928 гг. — от Гоголя и Пушкина — продолжают писатели, обосновывая ценность человеческой жизни» [Роженцева, 2003: 135]. Наиболее подходящим жанром для воплощения образа «маленького человека» в литературе начала XX в., как и в русской литературе XIX в., стал жанр повести. В первой трети XX в. жанровые границы оказались размы-тыми12, повесть была одним из самых распространенных жанров, другие жанры «уподоблялись» ей (подробнее см.: [Грознова, Бузник: 154]). Повесть 1920-х гг. подключилась к поискам «героя времени»: с одной стороны, «утверждались» новые герои — «активные борцы за справедливость», с другой — в повестях 1920-х гг. «не теряла актуальности гуманистическая проблема "маленького человека"», многие писатели «не оставались равнодушными к судьбам людей, стоявших в стороне от решающих событий истории» [Грознова, Бузник: 148, 158]. Все чаще появлялись произведения, в которых «типы людей старой действительности испытывались идеями нового мира» [Грознова, Бузник: 187]. Своего «героя времени» ищет и Плато-нов13, который также выбирает жанр повести. Платонов в целом следует за той гуманистической традицией, которая была обозначена идеологами советской литературы, прежде всего М. Горьким14, и изображает в повести «Ямская слобода» своего «маленького человека», Филата, который находится в стороне от решающих событий того времени: Первой мировой войны и революции.
Платонов не стремился противопоставить «старого» и «нового» человека — в текстах писателя показана «не борьба нового со старым, а их смена » [Никонова, 2003: 186]. Кроме того, Платонов актуализирует не противопоставление «старый/новый», а противопоставление «ветхий/новый»: эпитет «ветхий», наполненный у Платонова в том числе и библейским контекстом, приобретает «универсальный» характер: он «характеризует разные объекты, которыми могут быть самые разные сущности: природные явления, артефакты, люди, одушевленные объекты, абстрактные понятия; при этом он аккумулирует эстетическое, этическое, философское, религиозное содержание, представляя и поясняя феномен трагического у А. Платонова» [Спиридонова: 559].
Исследователи выделяли разные типы платоновских геро-ев15: тип естественного, «природного» человека, которому противостоит тип сверхчеловека [Малыгина, 1995: 30], [Яблоков: 196]; образ «сироты, странника, мастера, героя, юродивого, вредителя» как разные ипостаси типа «сокровенного человека» [Корниенко, 1993: 103]. Т. А. Никонова называет главного героя Платонова середины 1920-х гг. «человеком идущим», который противостоит героям-преобразователям произведений писателя начала 1920-х гг.: «Место "нового" человека в размышлениях Платонова естественно занял "сокровенный" странник, для которого главным является поиск своего места в жизни» [Никонова, 2003: 196]. Наоборот, «антитезой» к образу сокровенного человека — Фомы Пухова — называет Филата А. Варламов, который считает, что Филат «еще не одухотворенный, но го товый к одухо творению человек» [Варламов: 131]. Наконец,
Л. П. Фоменко, а вслед за ней уже другие исследователи16, первая писала о трансформированном типе «маленького человека» в повестях Платонова: «Платоновский герой 20-х гг. восходит к традиционному в русской литературе типу "маленького человека" и принципиально от него отличается» [Фоменко, 1970: 45–46].
Образ «маленького человека» начал интересовать писателей уже в XVII в.: «Серьезность вопросов, стоявших перед новой, демократической литературой XVII в., была связана с социальными проблемами своего времени. Авторов <…> начинали интересовать вопросы социальной несправедливости, "безмерная" нищета одних и незаслуженное богатство других, страдания маленьких людей, их "босота и нагота"» [Лихачев, 1986: 110]. Это было, по мнению Д. C. Лихачева, «великим предвозвестием гуманистического характера русской литературы XIX в. с ее темой ценности маленького человека , с ее сочувствием каждому, кто страдает и кто не нашел своего настоящего места в жизни» (курсив мой. — М. З .) [Лихачев, 2015: 235–236]. Конфликт «маленького человека» с государством и обществом, ставший «жанровым содержанием» русской повести 1830–1840-х гг., по мнению В. Н. Захарова, позволил различать повесть и роман как жанры литературы в целом [Захаров, 1985: 17].
В русской литературе конца XVIII — начала XX в. образ «маленького человека» нашел свое воплощение в произведениях Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, А. И. Куприна, М. Горького, Л. Андреева, Ф. Сологуба и других писателей. Впервые в критической литературе употребил этот термин В. Г. Белинский в статье «Горе от ума»17: «…горе маленькому человеку, если он, считая себя "не имеющим чести быть знакомым с г. генералом", не поклонится ему или на балу не уступит места, хотя бы этот маленький человек готовился быть великим человеком!.. тогда из комедии могла бы выйти трагедия для "маленького человека"» [Белинский: 226]. По мнению А. В. Жучковой, «Белинский не вводит в литературоведение это понятие, а скорее обобщает предшествующую тенденцию делать из героя низкого социального положения рупор демократических идей, возникшую еще в XVIII веке, в эпоху классицизма и Просвещения» [Жучкова: 13].
Одним из первых в ряду «маленьких людей» русской литературы XIX в. традиционно выступает Самсон Вырин из повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель». В этом произведении конфликт носит еще бытовой характер, хотя возникающий образ блудного сына (дочери) переводит эту повесть «из социально-бытового плана в философский» [Сокол: 8]. Иной позиции придерживается, например, И. А. Есаулов, который не видит в пушкинской повести воплощения евангельского сюжета о возвращении блудного сына и рассматривает повесть как произведение о чуде любви: «Пушкинский финал — светлый финал. Героиня все-таки осуществляет возвращение, хотя и на могилу отца. Она "умирает" только лишь в своей функции дочери станционного смотрителя и "воскресает" как любящий и любимый человек. В прозаическом мире есть все-таки место любви, что вполне сродни чуду — в этом сокровенный смысл пушкинского текста» [Есаулов, 2012: 25]. Однако важно, что, начиная с произведений А. С. Пушкина, «тип "маленького" человека обретает психологическую и философскую глубину, под влиянием которой социальный статус героя обретает уже иную окраску, и далеко не всегда сочувственную» [Жучкова: 13]. Как указывает А. П. Кузичева, в XIX в. термин «маленький человек» сливался с другими, что придавало ему новые черты: в «1830–1840-е годы, вместо "маленький человек" в разговорную речь, в тексты самих произведений вошло словосочетание "бедный чиновник", а затем его вытеснило "мелкий чиновник", в свою очередь превратившееся в "мелкого человека"» [Кузичева: 63].
Советская литература, следуя за традицией русской классической литературы в изображении «маленького человека», тоже «дошла» до интерпретации «маленького» человека как «мелкого». Например, повесть Л. Леонова так и называлась — «Конец мелкого человека» (опубл. в 1924 г.). Однако советские критики все же в бóльшей степени проповедовали гуманистический подход в освещении темы «маленького человека», руководствуясь тем, что «советский человек всегда на стороне угнетенных» [Шафранская: 24]. Постепенно кротость русского народа становилась помехой для революционных преобразований18. «Маленький человек» не вписывался в новую советскую действительность, на его смену должен был прийти «великий» человек пореволюционной эпохи: «…пи-сателям предстояло как бы заново распознать величие человека, проявляющееся уже не в открытом ратном подвиге, а в малозаметных, может быть обыкновенных, обстоятельствах мирного бытия» (курсив мой. — М. З.) [Грознова, Бузник: 188]. Объединил два взгляда на «нового человека» М. Горький, который в 1920-е гг. писал о «решающей роли в истории "маленьких великих людей", труд которых становится основанием культуры» (курсив мой. — М. З.) [Роженцева, 2003: 138–139]. Так, в статье 1929 г. «О "маленьких" людях и о великой их работе» Горький утверждал, что именно после революции стало возможным оценить труд «маленьких людей» (рабочих и крестьян), на основе которого выросли «великие люди» настоящего19.
Кроме типа «маленького человека», русская литература XIX в. создала тип «лишнего человека»; этот термин после публикации «Дневника лишнего человека» И. С. Тургенева (1850) прочно вошел в обиход литературной критики и начал распространяться на более ранние произведения. «Лишний человек» в литературе XIX в. — это, как правило, герой, обладающий большими способностями (Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров и др.), но оказывающийся ненужным современному ему обществу. Образ «лишнего человека» снова возникает и в литературе XX в., что было отмечено советскими критиками: «В самом факте внимания к "антигерою", "лишнему человеку современности"» советские идеологи усматривали «бегство от гражданских тем», «правую опасность» [Грознова, Бузник: 187]. На Первом съезде советских писателей М. Горький в докладе о советской литературе заявлял, что «лишние люди» не то, что не нужны новой литературе, их «не должно, не может быть» вовсе20. При этом платоновский герой не только представляет собой инвариантный образ «маленького человека», но и по-своему является «лишним» для нового строящегося мира. Однако он не нужен этому новому миру, в отличие от героев литературы XIX в., из-за своей недалекости, юродивости, забитости. Таким образом, платоновский герой, в том числе и в повести «Ямская слобода», совмещает в себе черты «маленького человека», «лишнего человека»21, «ветхого человека»22 и юродивого23. Кроме того, по мнению А. А. Дырдина, «угол зрения, под которым писатель видит жизнь слободки, расширяет возможность совмещать "юродивость" героя с евангельским идеалом кротости и терпения» [Дырдин: 154].
Платонов, как и Пушкин в «петербургской повести», сопрягает в «Ямской слободе» быт и историю: повествование начинается с исторической справки, связывающей появление слободы с деятельностью Екатерины II24, до которой эти «степные места стояли пустыми и страшными» (211). Постепенно пространство осваивалось поселенцами, которых Екатерина сочла «дорожными жителями, нужными для прогона курьеров и чиновников по девственным степям» (211). Увеличивая «эпическую дистанцию» [Бахтин: 568, 586, 591], Платонов совмещает историю и современность, так как на смену старым порядкам, идущим еще от Екатерины II, вместе с революцией приходят новые, о которых в повести жители слободы только догадываются. Однако, несмотря на бытописательность повести, в ней очевиден главный конфликт, который впервые наиболее явно звучал именно в пушкинском «Медном всаднике»: конфликт власти и простого человека из народа25. Как указывает В. Н. Захаров, именно Пушкин «ввел в русскую повесть темы Петербурга и России, "властелина судьбы" и "маленького человека"» [Захаров, 1985: 69].
Этот же конфликт лежит в основе гоголевской «Шинели», несмотря на то, что, на первый взгляд, данная модель взаимоотношений в повести отсутствует: Гоголь тоже сначала переводит повествование в бытовой план. Это позволило В. Марковичу заметить, что у Гоголя «петербургская тема лишается в его повестях традиционной для высокого искусства прямой связи с темой Петра и вообще выносится за пределы высокой "гражданской" истории. Это бросается в глаза, если обратиться к любой из пяти повестей, не исключая и "Шинель", в сюжете которой как будто бы фигурируют три участника главной коллизии "Медного всадника" — "маленький человек", Государство и непокоренная Стихия» [Маркович: 127]. Исследователь в данном случае противоречит сам себе, а более точен В. В. Кожинов, который отметил у Гоголя «глубинную историчность», в том числе и в тех повестях, которые кажутся чисто «бытовыми», например в таких, как «Шинель»: «Как и в пушкинской поэме, в "Шинели" несомненно выступают три "феномена" — "маленький человек", Государство и, так сказать, Стихия, которую Государство не в силах покорить, победить» [Кожинов: 10–11].
Эти же три составляющие: «маленький человек», государство (в данном случае царская власть) и стихия (революция и народ) — присутствуют и в художественном пространстве «Ямской слободы»: Платонов помещает своего «маленького человека» в новые исторические условия — Первая мировая война и революция. Филат прочно занимает свое место в ряду «душевных бедняков» А. Платонова — это кроткий, скромный, постоянно стыдящийся себя человек. Платонов не раз подчеркивает «доброту сердца» (227) Филата: «Другого такого кроткого, способного и дешевого человека не было» (227). Филат не чуждается даже самой ничтожной работы, например вручную чистит выгребные ямы, что является реалией того времени26. Как и Акакий Акакиевич у Гоголя, переписывающий бумаги и находящий в этом свою поэзию и смысл жизни, Филат выполняет мелкую однообразную работу и рад ей. Если герой Гоголя мечтает о новой шинели, то герой Платонова — о хорошей лошади. В обоих случаях названы даже суммы, которые предстоит накопить героям: Акакию Акакиевичу нужно 80 рублей, Филату — 100 (219). На первый взгляд, — и это не раз отмечалось в критической литературе о Гоголе — мечта о новой шинели слишком ничтожна для человека. Однако и шинель, и лошадь — самые необходимые вещи для героев Гоголя и Платонова: они нужны, чтобы элементарно выжить. Кроме того, Гоголь предлагает, по мнению Л. Н. Дмитровской, «евангельское понимание корней образа "маленького человека"»: он продолжает развивать «евангельскую притчу о жизненном пути человека, писатель утверждает его малость как Богом данную сущность» [Дмитровская: 2]. То же самое можно сказать и о герое Платонова: Филат на протяжении всей повести смиряется со своим «маленьким» положением, но это отнюдь не «мелкий» человек, как, например, у Леонова27.
Платонов делает Филата одиноким и бездомным сиротой, лишает его родных и близких. Тема утраты Дома28 снова связывает повесть Платонова с «Медным всадником» Пушкина. Однако если «бедный Евгений» Пушкина решается на кроткий бунт после потери возлюбленной, то Филат пытается жить и выживать, даже не мечтая о любви и своем доме:
«…Филат девицам не радовался; он — человек без памяти о своем родстве и жил разным слободским заработком <…>, но одного не мог — жениться» (214).
Согласимся с Н. Хрящевой, что в финале повести Платонова «функцию Дома» обретает «категория Дороги» [Хрящева: 259].
Единственный друг Филата — бежавший с фронта Первой мировой войны Сват, который, согласно этимологии имени, «сватает» Филата «к прообразу Новой жизни» [Хрящева: 252]. Образ Свата показывает, как далек был Платонов от того, чтобы следовать за традицией новой советской литературы, где одной из главных тем стала тема «столкновения героического с будничным» [Грознова, Бузник: 190]. В повести Платонова герои, наоборот, бегут с фронта Первой мировой войны, лишаются всего героического. Писатель находит для них оправдание: «война звала мужчин, а жены вдовели и тосковали»:
«— Я, Филат, ушел с войны по своему желанию! — признается Сват. — Дюже там скорбно, и своя жизнь делается ни к чему!» (229).
Пришедший в слободу солдат обвиняет во всем царскую власть:
«Сукины они дети, да разве же допустимо любовь у человека отнимать? Ч ем потом отплачивать будут?» (233).
Именно Сват называет Филата «кротким», но «глупым» (225), используя это определение не только как противоположное эпитету «умный», но в большей степени как противоположное слову «хитроумный», каковыми являются слобожане, которые «жили не заработком, а жадностью» и бессовестно использовали дешевый труд Филата (223). Несмотря на то, что голова Филата, по его же признанию, «завяла» (226), у него остается чувство как средство познания мира: «…когда шевелилась у Филата мысль, он слышал ее гул в своем сердце» (239).
Противопоставление ума сердцу — одна из главных коллизий в текстах писателя. «У Платонова <…> слова ум, разум, голова, мысль, а также чувство и сердце сами начинают занимать позицию субъекта», каждая из этих сфер функционирует самостоятельно и не зависит от воли человека: «Писатель постоянно решает вопрос о приоритете мысли или чувства в психической деятельности человека», «чувство рассматривается Платоновым как равноправная форма познания, при этом чувственное познание противостоит рациональному» [Вознесенская, Дмитровская: 141, 142]. На наш взгляд, создавая образ Чиклина в повести «Котлован» (1930), Платонов будет отталкиваться от образа Филата из «Ямской слободы». Этот образ снова появится и в повести «Впрок» (1931), под тем же именем. В данной повести Платонов сравнивает революцию с воскрешением в новую жизнь: принятие крестьян в колхоз ассоциируется с рождением нового человека или даже скорее — с перерождением крестьянина в колхозника. Эта ассоциация найдет сюжетное воплощение в описании колхоза «Сильный поток», где повествователь рассказывает «быль» про Филата-батрака, который так же, как и Филат из «Ямской слободы», был «необходим», только теперь уже «в колхозе»: он жил «в усиленных заботах о колхозном добре»29. Филата из повести «Впрок» хотели принять в колхоз «на первый день пасхи, дабы вместо воскресенья Христа устроить воскресенье бедняка в колхозе»30. Но не успели: старик умер от «счастья»31. Предполагаемое «воскресение» в новой жизни в колхозе обернулось гибелью героя, чья смерть так же красноречива, как смерть героев в «Чевенгуре» и «Котловане». Коллективизация оказалась слишком «сильным потоком», сметающим всех без разбора.
Однако в первом варианте повести «Ямская слобода» герой носил имя Фома, а не Филат. Писатель отказался от имени Фома, как считает Е. Роженцева, из-за «народной этимологии» — аналогии с Фомой неверующим [Роженцева, 2016: 668]. Писатель изменил имя Фома на Филат, которое, с одной стороны, означает «любящий»32, с другой — «дурачок»33. В отличие от Фомы неверующего, Филат не может верить или не верить в происходящие события, ведь он даже не в состоянии их осмыслить — кроме того, в противовес Фоме неверующему, Филат «доверчивый, простодушный» [Роженцева, 2016: 668]. О событиях Первой мировой войны и революционных преобразованиях, которые происходят за границами слободы, он слышит, в том числе из комментариев бежавшего с фронта Свата или пришедшего в слободу солдата, но не может сомневаться в целесообразности этих событий (как, например, Фома Пухов — герой повести Платонова «Сокровенный человек») именно потому, что сомнение — признак работы ума, которого у Филата, судя по описанию, нет:
«Филату от работы некогда было опомниться и подумать головой о постороннем — и так постепенно и нечаянно он отвык от размышления; а потом — когда захотел — уже нечем было: голова от бездействия ослабла навсегда» (235).
Однако имя Фома все же звучит в окончательной редакции повести — в упоминании Фоминой недели как срока, до которого должен решиться самый главный вопрос: «Дадут мужику землю в результате революции или нет?». Платонов сопрягает пасхальный хронотоп34 с революционным:
«По ночам на станции иногда стреляли, иногда нет. А слобода запасалась продовольствием, срочно стягивая все недоимки с мужиков за прошлогодний урожай. Захар Васильевич лично ездил в деревню к своему арендатору и наказывал:
— Время, Прохор, мутное, а ты мне пшена должен сорок пудов — вези, пока дорога заквокла, а то скоро распустит, тогда до самой Фоминой недели не просохнет!
— Да я уж не знаю, Захар Васильевич, как и быть! — сомневался Прохор, не теряя учтивости в словах. — Говорят, будто земля теперь даром мужику отойдет и с недоимками дело терпится!» (курсив мой. — М. З .) (237).
Фомина неделя, или Антипасха, — вторая неделя после Пасхи, когда Святой апостол Фома, отсутствовавший во время первого явления Христа после Своего Воскресения, пришел к апостолам: «Когда он пришел, то другие апостолы бросились делиться с ним этой радостью. Но он им не поверил, мотивируя свое неверие следующими словами: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю" (Ин. 20:25). Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет о поведении Фомы: "Так выразилось не неверие, враждебное Богу, — так выразилась неизреченная радость; так выразилась душа пред величием события, превышающего человеческий ум, пред величием события, изменившего состояние человечества. С Христом и во Христе воскресло человечество. Всеблагий Господь не замедлил доставить возлюбленному ученику желанное им удостоверение"»35.
В повести «Ямская слобода» благая весть подменяется вестью о революции: герои «Ямской слободы» слышат о ней, но не верят, так как из города поступают противоречивые известия:
«— Царя давно нету — на железной дороге дезертиры бунтуют… А мы сидим — ничего не знаем…» (236);
«Революция — это одна свобода, а собственность тут ни при чем — как была, так и останется!» (237);
«На всех богатства недостанет, а вот хлеба скоро не будет, тогда все само укротится!» (241).
Сопрягая пасхальный хронотоп с революционным, Платонов в духе времени интерпретирует и выражение «пуп земли» (213–214).
В начале повести рассказывается об ученом Бергравене, которого императрица Екатерина II назначила дать «поименное название» для особо усердных ямщиков (213) и который с этой целью путешествует по российской степи. Ученый останавливается у прадеда Астахова и из «ученых» же целей просит найти «пуп земли» как некое живое сакральное место, без которого «земля расползлась бы» (213). «Пуп земли» трактуется здесь скорее в мифологическом и онтологическом смысле, чем в религиозном:
«— Ты поезди-ка, дружок, один по степи да посмотри на высоких гладких местах: нет ли на земле завязи или скрепы какой — вроде пуповины у тебя на животе…» (213).
Астахов сначала «из страха» искал «пуп», но потом перестал, так как «не хотел морить коня», и сказал ученому, «что уезжает на три дня в высокую дальнюю степь, а сам ускакал к куму-казаку в гости, за сорок верст» (курсив мой. — М. З .) (213). Указание на время, с одной стороны, отсылает нас к сказочному «три дня и три ночи», с другой — к ветхозаветному и евангельскому — именно столько находились Иона в чреве кита и Иисус в «сердце земли»: «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:38–40). В христианской традиции «пупом земли» называется город Иерусалим и непосредственно то место, которое находилось рядом с пещерой Гроба Господня, а потом внутри Храма Гроба Господня.
Астахов обманывает ученого и сообщает, что нашел «пуп земли» «в бугристом месте, посреди степи». Однако по описанию он напоминает скорее останки человека: весь «червивый», в «кровоточинах и шитый из кусков», «старый», «обветшалый и из живого тела сотворен» (214). Обман Астахова и его описание «пупа земли», с одной стороны, могут свидетельствовать о том, что для платоновских героев Христос так и не воскрес, с другой стороны — о том, что у Платонова актуализировано мифопоэ тическое пони мание «пупа земли» как «пупа перво человека »36.
Так, по указанию В. Н. Топорова, «пуп земли» может трактоваться как «пуп первочеловека» — «космического тела», которое «в мифопоэтических и религиозно-философских традициях» означает «антропоморфизированную модель мира»37. О подмене религиозного сознания мифопоэтическим свидетельствует и тот факт, что Бергравен, слушая рассказ Астахова, «исписал на псалтыре целую стопку бумаг» (курсив мой. — М. З .) (214). По мнению А. Дырдина, «земной пупок — "земная завязь" — эманация мирового центра, заставочный образ, служащий писателю для окаймления трагической судьбы главного героя <…>. В повести Платонова данный символ воспринимается как место встречи земли и неба» [Дырдин: 154].
Наконец, новости о революции в виде слухов доходят и до Филата, который вдруг прозревает:
«Филат слушал и начинал понимать простоту революции — отъем земли» (242).
Лишенный последней возможности заработать на хлеб, Филат не умирает, а, наоборот, перерождается:
«…втайне Филат чувствовал какую-то влекущую мысль: он надеялся, что если выйдет из слободы, то с голоду не пропадет, а раньше бы пропал. Постоянный скрытый страх за жизнь, с годами превратившийся в кротость, рассасывался внутри сам по себе, и сердце все больше разогревалось волнующими первыми желаниями. Чего он желал — Филат не знал. Иногда ему хотелось очутиться среди множества людей и заговорить о всем мире , как он одиноко догадывался о нем» (курсив мой. — М. З .) (242).
Показывая процесс осознания «маленьким человеком» своего места в «большой революции» и его желание «заговорить о всем мире», Платонов сближает своего героя с героем Достоевского. В романе «Бедные люди» Достоевский показал не столько «маленького человека», что стало «общим местом» в исследованиях о произведении, сколько сам процесс перерождения героя: «У Достоевского нет лишних и маленьких людей. <…> Каждый безмерен и значим, у каждого свое Лицо» [Захаров, 2013b: 160]. Макар Девушкин «перерождается, и это перерождение <…> в слове и сло вом. <…> Переп исчик становится писателем» [Захаров, 2013а: 85].
Филат, конечно, не становится писателем, но он готов отказаться от своей малозначительности и выйти в большой мир революции из маленькой слободы, чтобы заявить о себе и о своем понимании происходящих событий. Он больше не стыдится себя и своего нищего положения:
«Филат почувствовал такую крепость в себе, как будто у него был дом, а в доме обед и жена. Он уже больше не боялся голода и шел без стыда за свою одежду» (248).
Филат решается на скромный, но бунт:
«Я не нарочно на свет родился, а нечаянно, пускай теперь все меня терпят за это, а я мучиться не буду» (248).
Тема бунта снова связывает повесть Платонова с «петербургскими повестями» Пушкина и Гоголя. Филат больше не хочет «безмолствовать», а значит, не хочет ощущать себя частью толпы, массы — слово, столь нелюбимое А. Платоновым. По мнению исследователей, на художественное решение проблемы «личность-масса» в советской литературе первой трети XX в. повлияла именно «жанровая природа повести»: «Проза первой половины 20-х годов занимает особое место в традиции художественного осмысления русской литературой роли народа, народных масс в истории. Эта традиция ведет свою родословную со времен Пушкина. Найденная им поэтическая формула — "народ безмолвствует", в которую писатель вложил сложное психологическое, историческое содержание, стала тем поэтическим зерном, из которого развилась богатейшая традиция. И вполне закономерно, что образ народной массы, впервые открыто выступившей на арене истории, приобрел столь важное значение в прозе пореволюционного периода» [Грознова, Бузник: 94].
Платонов отходит от этой традиции: писатель не использует термин «массовый человек»: в его статьях 1930-х гг. вместо слова «масса» «возникает понятие "рядовой народ", объединяющее как раз тех героев, которые для русской советской литературы уже стали негативно "массовыми"» [Никонова, 2003: 195–196]. В повести «Ямская слобода» писатель употребляет другие словосочетания, противоположные слову «масса», — «сплошной народ» и «ровный народ». Эту мысль Платонов, как это часто бывает в его произведениях, вкладывает в уста второстепенного персонажа — солдата:
«— Царь и богатые люди не знают, что сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, жены — и один дороже другому. И так цопко кровями все ухвачены, что расцепить — хуже, чем убить... А сверху глядеть — один ровный народ , и никто никому не дорог!» (курсив мой. — М. З .) (232–233).
Для писателя народ — не абстрактное понятие, не безликая масса, персонализация каждого отдельного «государственного жителя» — утопическая мечта Платонова. Неслучайно в финале повести Филат отправляется в странствие в одиночестве, которого до этого момента боялся. Показывая перерождение героя, Платонов сопрягает пасхальный (который понимается в духе времени как воскрешение героя к новой жизни после революции), кумулятив-ный38 и, как это ни парадоксально, циклический сюжеты39. Последний заявлен в повести на уровне финала, который остается открытым: уходя, Филат забывает закрыть дверь40, а значит, он оставляет за собой возможность вернуться обратно41. В статье «Ворота, двери и окна в романе "Счастливая Москва"» И. А. Есаулов указывает на художественную функцию дверей в произведениях Платонова: они связаны с «действием» и олицетворяют «границу между героем и другими» [Есаулов, 1999: 252, 254], которую следует преодолеть, с чем Филат благополучно справляется. С другой стороны, открытые финалы в целом характерны для повестей Платонова: «продолжение в жизни» — как бы говорит читателю автор.
Важно также, что Филат уходит из слободы зимой, когда выпадает перв ый снег, который традиционно (в образе метели)42
в русской литературе является символом стихии/революции. Мы не можем согласиться с мнением, высказанным Н. О. Ласкиной, что в повести «Ямская слобода» снег ассоциируется со смертью героя: «Снег–смерть (–дорога)» — «спайка», возникающая в «Ямской слободе» [Ласкина: 13]. Ближе к истине Н. Хрящева, которая считает, что «снег как символ смерти неожиданно» для Филата «переходит в символ дороги как начала новой жизни по первопутку» [Хрящева: 259]: «Для кого в снегу смерть, а для меня он — дорога!» — восклицает в финале повести Филат (248).
Платонов понимал, насколько сложным был процесс перерождения простого человека из народа в «нового» человека, перекованного революцией. Следуя за традицией русской литературы в изображении «маленького человека» — «петербургскими повестями» А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, Платонов, с одной стороны, подчеркивает связь своего героя с «маленькими людьми» русской литературы XIX в., с другой — наделяет его новыми чертами. Платоновский герой — это не только «маленький человек», но и «лишний человек», юродивый, более того, Филат обладает христианской добродетелью — кротостью характера. Филат — первый в ряду «душевных бедняков» Платонова, он герой чувства, инстинктов, доброго сердца. Это тот самый «сокровенный человек» Платонова, которого революция заставляет преобразиться, решиться на бунт — уход из Ямской слободы. В этом писатель видел и величие своего «маленького человека»43. Показывая первые попытки «самостоянья» героя, погружаясь в судьбу «маленького человека» XX в., раскрывая его «сокровенность» и в то же время несвоевременность, А. Платонов пытался сформулировать собственное представление о народном счастье и — как и его герой — задавался вопросом: а в революции ли оно.
DOI: 10.26710/fk16-03-02
546 p. (Ser.: The Life of Wonderful People.) (In Russ.)
Список литературы Концепция человека в повести А. Платонова «Ямская слобода»
- Бахтин М. М. К вопросам теории романа // Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Языки славянских культур, 2012. Т. 3: Теория романа (1930–1961 гг.). С. 557–607.
- Белинский В. Г. Горе от ума. Комедия в четырех действиях, в стихах. Сочинение А. С. Грибоедова // Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9 т. М.: Худож. лит., 1977. Т. 2. С. 182–242.
- Варламов А. Андрей Платонов. М.: Молодая гвардия, 2011. 546 с. (Сер.: Жизнь замечательных людей.)
- Вознесенская М. М., Дмитровская М. А. О соотношении ratio и чувства в мышлении героев А. Платонова // Логический анализ языка. Ментальные действия. М.: Наука, 1993. С. 140–146.
- Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. Paris: YMCA-PRESS, 1982. 408 с.
- Грознова Н. А., Бузник В. В. Повесть 20-х годов // Русская советская повесть 20–30-х годов / под ред. В. А. Ковалева. Л.: Наука, 1976. С. 73–217.
- Гюнтер Х. По обе стороны от утопии: контексты творчества А. Платонова. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 216 с.
- Дмитровская Л. Н. Новый взгляд на образ «маленького человека» в повести Н. В. Гоголя «Шинель» // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Киев, 2009. № 4. С. 2–5.
- [Дужина Н.] Новые материалы к истории текста произведений Платонова 1930–1931 гг.: «Котлован», «Шарманка», «Ювенильное море» / статья и публ. Н. Дужиной // Архив А. П. Платонова. М.: ИМЛИ РАН, 2009. Кн. 1. С. 237–269.
- Дырдин А. А. «Ямская слобода» Андрея Платонова: топосы степного пространства // Филологический класс. 2021. Т. 26. № 3. С. 150–161 [Электронный ресурс]. URL: https://filclass.ru/archive/2021/tom-26-3/yamskaya-sloboda-andreya-platonova-toposy-stepnogo-prostranstva (01.04.2023). DOI: 10.51762/1FK-2021-26-03-13
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. 288 с.
- Есаулов И. Ворота, двери и окна в романе «Счастливая Москва» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: Наследие, 1999. Вып. 3. С. 252–260.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с.
- Есаулов И. А. О сокровенном смысле «Станционного смотрителя» А. С. Пушкина // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. Вып. 10. С. 25–30 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1457947949.pdf (01.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2012.336
- Жучкова А. В. Нравственный аспект образа «маленького человека» в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина» // Филологический класс. 2016. № 3 (45). С. 12–20 [Электронный ресурс]. URL: https://filclass.ru/archive/2016/45/nravstvennyj-aspekt-obraza-malenkogo-cheloveka-v-povestyakh-pokojnogo-ivana-petrovicha-belkina (01.04.2023). DOI: 10.26710/fk16-03-02
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1985. 208 с.
- Захаров В. Н. Что открыл Достоевский в «Бедных людях»? // Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Индрик, 2013. С. 75–87. (а)
- Захаров В. Н. Художественная антропология Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. Вып. 11. С. 150–164 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431455945.pdf (01.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2013.377 (b)
- Кожинов В. В. Вместо предисловия // Гоголь: история и современность: к 175-летию со дня рождения. М.: Сов. Россия, 1985. С. 3–14.
- [Колесникова Е. И.] Малая проза Платонова / публ. Е. И. Колесниковой // Творчество Андрея Платонова: исследования и материалы. Кн. 2. СПб.: Наука, 2000. С. 254–318.
- Корниенко Н. В. История текста и биография А. П. Платонова (1926–1946) // Здесь и теперь. 1993. № 1. 320 с.
- Корниенко Н. Между Москвой и Ленинградом: о датировке и авантексте романа «Чевенгур» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 2005. Вып. 6. С. 624–678.
- Корниенко Н. В. Комментарии // Платонов А. Сочинения. М.: ИМЛИ РАН, 2021. Т. 3: 1927–1929. Чевенгур. С. 545–582.
- Кузичева А. П. Кто он, «маленький человек»? (Опыт чтения русской классики) // Художественные проблемы русской культуры второй половины XIX века: сб. науч. тр. М.: Наука, 1994. С. 61–114.
- Ласкина Н. О. Принципы организации художественного времени и пространства в прозе А. Платонова двадцатых годов: автореф. дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2000. 19 с.
- Ласунский О. Житель родного города: воронежские годы Андрея Платонова (1899–1926). Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. 288 с.
- Лихачев Д. С. Предпосылки возникновения жанра романа в русской литературе // Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе / отв. ред. О. В. Творогов. Л.: Наука, 1986. С. 96–112.
- Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. 320 с.
- Лукин И. Формы разума в художественно-философской системе А. Платонова. На материале рассказа «Мусорный ветер» и повести «Ямская слобода» // Вопросы литературы. 2017. № 3. С. 242–260. [Электронный ресурс]. URL: https://voplit.ru/article/formy-razuma-v-hudozhestvenno-filosofskoj-sisteme-a-platonova-na-materiale-rasskaza-musornyj-veter-i-povesti-yamskaya-sloboda/ (01.04.2023).
- Малыгина Н. М. Художественный мир А. Платонова. М.: МПУ, 1995. 96 с.
- Малыгина Н. М. Комментарии // Платонов А. Эфирный тракт: повести 1920-х – начала 1930-х годов / под ред. Н. М. Малыгиной. М.: Время, 2011. С. 539–540.
- Манн Ю. В. Маленький человек // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. Стб. 494–495.
- Маркович В. Петербургские повести Н. В. Гоголя. Л.: Худож. лит., 1989. 208 с.
- Матвеева И. И. Комическое в творчестве Андрея Платонова 1920-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1995. 18 с.
- Никонова Т. Смыслообразующая роль оппозиции в повести «Ямская слобода» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 2000. Вып. 4. С. 282–288.
- Никонова Т. А. «Новый человек» в русской литературе 1900–1930-х годов: проективная модель и художественная практика. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. 232 с.
- Никонова Т. А. Андрей Платонов в диалоге с миром и социальной реальностью. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. 220 с.
- Поляков А. В. Принципы и приемы выражения авторской оценки в произведениях Андрея Платонова конца 1920-х — начала 1930-х годов: дис. … канд. филол. наук. СПб., 2009. 169 с.
- Роженцева Е. А. Историческая концепция А. П. Платонова (на материале истории текста повестей «Епифанские шлюзы» и «Ямская слобода»): дис. … канд. филол. наук. М., 2003. 306 с.
- Роженцева Е. А. Комментарии // Платонов А. Сочинения. М.: ИМЛИ РАН, 2016. Т. 2: 1926–1927: повести, рассказы, сценарии, статьи. С. 662–681.
- Свительский В. А. Андрей Платонов вчера и сегодня. Статьи о писателе. Воронеж: Полиграф, 1998. 156 с.
- Сизых О. В. Мотивы русской классики в творчестве А. Платонова: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1997. 20 с.
- Сокол Е. М. «Маленький человек» в творчестве русских писателей 1840-х годов в свете христианской традиции (от Гоголя — к Достоевскому): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2003. 27 с.
- Спиридонова И. А. Эпитет «ветхий» в художественном мире А. Платонова (на материале «Чевенгура» и военных рассказов) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. Вып. 8. С. 538–570 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=3467 (01.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2008.3467
- Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 150–166.
- Фоменко Л. П. Творчество А. П. Платонова (1899–1951): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1969. 17 c.
- Фоменко Л. П. К вопросу о концепции героя в творчестве А. Платонова 20-х годов // Творчество А. Платонова: статьи и сообщения. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1970. С. 45–55.
- Хрящева Н. П. «Кипящая Вселенная» А. Платонова: динамика образотворчества и миропостижения в сочинениях 20-х годов. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т; Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. ин-т, 1998. 323 с.
- Шафранская Э. Ф. «Маленький человек» в контексте русской литературы XIX — нач. XX в. (Гоголь — Достоевкий — Сологуб) // Русская словесность. 2001. № 7. С. 23–27.
- Яблоков Е. О типологии персонажей А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 1994. Вып. 1. С. 194–203.