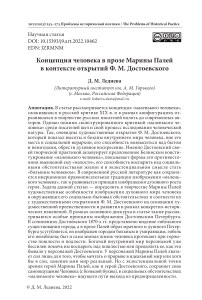Концепция человека в прозе Марины Палей в контексте открытий Ф. М. Достоевского
Автор: Леднева Дарья Михайловна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается концепция «маленького человека», сложившаяся в русской критике XIX в. и в разных конфигурациях отразившаяся в творчестве русских писателей вплоть до современных авторов. Однако помимо сконструированного критикой «маленького человека», среди писателей шел и свой процесс исследования человеческой натуры. Так, очевидны художественные открытия Ф. М. Достоевского, который показал высоты и бездны внутреннего мира человека вне его места в социальной иерархии, его способность возвыситься над бытом и невзгодами, обрести духовное воскресение. Именно Достоевский своей творческой практикой дезавуирует предложенное Белинским конституирование «маленького человека», показывает формы его противостояния вменяемой ему «малости», его способность воспарить над социальными обстоятельствами жизни и в экзистенциальном смысле стать «большим человеком». В современной русской литературе как сохраняется инерционная нравоописательная традиция изображения «маленького человека», так и развивается принцип изображения духовного роста героя. Задача данной статьи - определить в творчестве Марины Палей художественные особенности изображения духовного мира человека в окружающих его социально-бытовых обстоятельствах и соотнести их с художественными открытиями Ф. М. Достоевского на основании художественной преемственности и развития в рамках конкретно-исторических изменений. В рамках основного дискурса в статье также рассматриваются особые принципы изображения Достоевским Петербурга. В сочинениях Достоевского 1870-х гг. представлено видение гибельного существования города, а в прозе Палей образ мрачного и душного Петербурга усугубляется, он изображен городом больным и умирающим, гибель его неизбежна; быт и сама земная жизнь человека протекают при торжестве пошлости и подлости. Богатый внутренний мир персонажей уже бессилен помочь им воспарить над пошлостью или преодолеть ее, как это бывало у персонажей Достоевского. У персонажей Марины Палей хватает сил лишь для того, чтобы мечтать о прорыве в идеальный мир или хотя бы в сон, заменив ими мир реальный. Но с экзистенциальной точки зрения герой Марины Палей, как и герой Достоевского, сохраняет свое самоощущение Человека (с большой буквы), в социальных обстоятельствах «маленького человека» ищущего пути выхода из предопределенности.
Марина палей, ф. м. достоевский, маленький человек, традиция, преемственность, современная проза, петербург, петербургский текст, духовный мир человека, экзистенциализм в литературе, большой человек
Короткий адрес: https://sciup.org/147238873
IDR: 147238873 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10462
Текст научной статьи Концепция человека в прозе Марины Палей в контексте открытий Ф. М. Достоевского
И зображения духовного мира человека в русской литературе в результате интерпретации В. Г. Белинского и его последователей связывают с особенностями представления «маленького человека», начиная от «Станционного смотрителя» Пушкина и «Шинели» Гоголя. Между тем авторские и, главное, литературно-критические посылы были серьезно переосмыслены в творчестве Достоевского, что повлияло на дальнейшее развитие темы и проблемы. Без опыта Достоевского невозможно ни осмыслить феномен «маленького человека» в творчестве русских беллетристов XIX века, у Чехова, писателей Серебряного века, вплоть до современных российских авторов (среди них исследователями выделены Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Ю. Буйда, Р. Сенчин, Е. Гришковец, Е. Чижова), ни оценить саму емкость и состоятельность обозначения «маленький человек».
Так, рассуждая об изображении «маленького человека» в современной литературе, С. С. Беляков в статье «Призрак титулярного советника» отмечает, что «ценность человеческой жизни в дегуманизированном мире современной литературы стремится к нулю» [Беляков], и это утверждение относится не столько к «маленькому человеку», сколько к человеку вообще.
Литература постмодерна — это постоянная игра с уже известным материалом, жонглирование смыслами без стремления сохранить генеративность традиционно-этических начал литературы, радикальное упрощение восприятия души, призыв к низовому, стремление уйти от традиционной нормы, «падание» языка и воцарение ненормативной лексики. Постмодернизм отрицает красоту и нравственность [Татаринов: 233–238]. С. С. Беляков отмечает «отстраненное, прохладное отношение к человеку, в особенности к человеку “простому” — бедному, необразованному и просто чужому, принадлежащему к другому социальному слою» [Беляков]. «Маленький человек» теперь часто «деталь ландшафта» [Беляков]. Писатели вроде Оксаны Робски презирают «маленького человека», а для Эдуарда Лимонова он — «бесполезный балласт» [Беляков]. Для других авторов — тема для анекдота или сюрреалистической страшилки.
Ю. В. Прасолова утверждает, что «маленький человек» сегодня «стал самостоятельным и самодостаточным героем», но в то же время у него все еще «лицо униженного и оскорбленного человека, униженного обстоятельствами жизни, невозможностью или нежеланием их изменить». Он может пытаться вырваться из рутины, а может не предпринимать попыток, может даже не осознавать своего униженного положения [Прасолова: 64]. По словам Романа Сенчина, жизнь «маленького человека» — это «череда дней-близнецов» [Сенчин].
Тем не менее С. С. Беляков выделяет и другой подтип «маленького человека» — со «странностями», которому удается преодолеть «бессмысленность и бессодержательность повседневности» [Беляков] и обрести смысл жизни. Это герои Маргариты Хемлин, Евгения Каминского, Евгения Гришковца, Александра Иличевского. Все это свидетельствует, с одной стороны, об очевидной полемичности в подходах к изображению духовного мира человека в современной литературе, а с другой — об очевидной терминологической инерции, прежде всего — при использовании понятия «маленький человек» вне контекста опыта Ф. М. Достоевского.
Литература, относящаяся к человеку как игрушке, нужной автору, чтобы показать мастерство псевдоинтеллектуального выворачивания реальности, идейно и духовно противоположна прозе Достоевского, который увидел в человеке самоценную духовно богатую личность. Марина Палей, отделяя человека духовно богатого и тонко чувствующего от человека массового, пошлого и живущего Гастером (см. роман «Ланч», где власть Гастера, то есть желудка, описана с экспрессивной мощью), также противостоит засилью духовной нищеты. Поэтому вопрос о «маленькости» человека для нее — вопрос экзистенциальный: человек, живущий в социально-бытовых обстоятельствах «маленького человека», может воспарить над ними, вырасти и перестать быть «маленьким». Не социальнобытовые обстоятельства определяют человека, а отношение к ним, наличие мечты, бунта и творческих порывов.
В свое время критики, говоря о городе, в котором существует человек, упрекали Достоевского в изображении грязи: «лабиринт глухих закоулков жизни, грязных дворов, темных, извилистых коридоров, вонючих лестниц» [Ахшарумов: 147]. Однако Достоевский, в отличие от бытописателя и сюжетчи-ка Ахшарумова и многих ему подобных литераторов, был наделен даром видеть подосновы действительности, а не только ее эмпирику, прозревал то, что другие боялись, стеснялись или не могли разглядеть. Здесь следует вспомнить героя Марины Палей по имени Том Сплинтер (роман «Жора Жирняго»), который также обладал даром или проклятием видеть общественное уродство и не мог не обличать его. Достоевский обратился к той неприглядной правде жизни, грязи, которая всегда соседствует с гармонией, и в ней разглядел красоту способной возвыситься человеческой души.
Ахшарумов отметил умение обывателя не замечать мрачных сторон действительности:
«…пропасть эта не есть сказочный вымысел, а нечто действительно существующее и совсем не так далеко от нас, как мы, может быть, думаем. Покуда мы молоды и не успели узнать, что такое жизнь, или покуда случайности нашего положения в ней не сняли нам завесы с мрачной ее стороны, сторона эта не имеет для нас почти никакого реального смысла. Мы знаем, что есть такие вещи, как нищета и банкротство, есть тиф, холера, и рак, и сумасшествие; но покуда на нашей стороне улицы солнце светит, и мы дышим легко, и на сердце у нас не щемит, в голове не путается, до тех пор нам сдается, как будто всё это не для нас, а для другого кого-то, нам незнакомого и чужого, а мы точно как будто отделены от этого чем-то непроходимым и застрахованы…» [Ахшарумов: 149].
Умение видеть (или не замечать) эту изнанку жизни — особенность индивидуального склада писателя, его отношений с действительностью и стратегий ее художественной обработки. Ахшарумов подметил характерную особенность среднестатистического обывателя, писатель же чувствует больше, чем простой обыватель.
Но это демонстративное, по сути, невнимание к изнанке жизни — покушение на саму суть творчества, литературного творчества, самоотчуждение писателя от переживаний и рефлексии, без которых творческое деяние попросту невозможно. Тем более это справедливо в нынешние времена размытости и даже радикального пересмотра нравственных ориентиров, морального релятивизма.
Вслед за Достоевским Марина Палей срывает стыдливую завесу с неприглядной стороны жизни. Грязь жизни — это не особенность определенной эпохи, а непреходящее качество бытия, которое существовало и будет существовать всегда. Закрыть, отвести или не закрыть глаза на изнанку жизни — личный духовный выбор каждого.
Достоевский раскрыл самосознание человека, показал его внутренний мир, самобытность, нравственные достоинства и бездны. Но, главное, он показал «бесконечную силу живой человеческой души, которая способна возвыситься над всяким внешним насилием и над любым человеческим падением» [Плохарская]. В произведениях Достоевского создано некое двоемирие, где «косный мещанский мирок соприкасается с величием лежащей вне его рамок жизни» [Инь, Свитенко: 252].
Как отмечает В. Н. Захаров, «Достоевский дал новую концепцию личности: он изобразил не только характеры своих героев, показал не только их психологию, он раскрыл их самосознание» [Захаров, 1989]. Важно отметить, что большую роль в духовном преображении имеет литература, но не та, которую герой читает, а та, которую он сам создает. Герой Достоевского Макар Девушкин «в слове сознает себя и мир», его духовный мир подобен «расширяющейся вселенной», потенциал его личности безграничен. Духовно прозревая, Макар Девушкин не только обретает возможность творить, но и обретает самого себя: «Это преображение героя происходит вопреки его прошлому, его воспитанию, происхождению, среде, вопреки социальной униженности и культурной обделенности героя. Макар Девушкин не только и не столько начинает чувствовать и мыслить, как лучшие из лучших, сколько понимает то, что дано и открывается только ему одному» [Захаров, 1989].
Достоевский открывает для «маленького человека» — «право на любовь, на братство, на равноправие» [Плохарская]. Для героя Достоевского возможно чудо воскресения духа, он возвышается через сострадание к другому, может, еще более несчастному человеку, или духовно воскресает, обретает веру в себя и в жизнь, когда к нему проявляют понимание и человечность. В этом отношении характерна сцена, когда «его превосходительство» вместо того, что распекать Макара Девушкина, жмет ему руку как равному и дает сторублевую бумажку: «Этим поступком они мой дух воскресили»1. Таким образом, «маленький человек» осознает свою значимость и чувствует себя именно человеком, включенным в человеческое общество.
В то время как герой Достоевского живет с гордым осознанием своей ценности, человек в творчестве Марины Палей часто затравлен, сломлен, выпотрошен. При этом он, хотя чудо воскрешения часто обходит его стороной, не теряет своего духовного и интеллектуального богатства, он способен мечтать и духовно бунтовать против устройства мира.
Сопоставляя социально-бытовые обстоятельства, отметим, что герой Достоевского не раболепствует, не преклоняется перед чинами, он горд собой. Герой Палей тоже не отличается раболепством, но машина чиновничьей власти стала масштабнее, человек раздавлен «священными чудовищами у кормушки верховной власти»2. Рабство не то чтобы узаконено, но оно стало неизбежным, масштабным. Человек не в силах бороться с системой. В мире Палей «ваше превосходительство», жмущее руку Макару Девушкину и дающее сторублевую бумажку, невозможно. Пропасть между простым человеком и власть имущим увеличилась. Герой Палей во многом становится обличителем социально-нравственной атмосферы, но противостоять ей он устал. Как уже было отмечено исследователями, «персонажи Марины Палей не находятся в рамках одномоментной краткой, но острой ситуации, угроза и физического и духовного существования перманентна, неразрешима, нескончаема до самой смерти» [Сипко: 152].
Героя Марины Палей душит болезненный, противоестественный коммунальный быт и старчески больной город. Не случайно в описании Петербурга у нее преобладает лексика, описывающая старость и болезни. В то время как у Достоевского лишь в позднем творчестве Петербург становится воплощением болезни, у Палей Петербург болен изначально. У Достоевского и Палей отчетливо просматривается противопоставление «деревня / природа — город», при этом деревня / природа у обоих авторов выступает как место отдыха души, где человек может быть счастлив.
Рассматривая образ Петербурга в творчестве обоих писателей как среду обитания человека, отметим следующее.
Петербург у Достоевского: «при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых !» (здесь и далее курсив мой. — Д. Л .) ( Д30 ; т. 1: 27). Или в «Преступлении и наказании»:
«На улице жара стояла страшная , к тому же духота , толкотня , всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь , столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, — всё это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины . Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека» ( Д30 ; т. 6: 6).
У Достоевского — образ душного, омерзительного города, плохо совместимого с человеком. Лексика писателя эмоционально-оценочна (негостеприимных, сердитых, страшная, особенная, нестерпимая и т. д.), выразительна даже при констатации погодного состояния (изморось, слякоть). Марина Палей образ душного города развивает в образ города болезненного, обильно используя в его характеристиках лексику, применяемую при описании старческих болезней.
«Стоял конец ноября — отвратительное, бесприютное , самое безнадежное петербургское время. Конец ноября: тяжелейший петербургский недуг в череде его хронических, старчески-неопрят-ных болезней . Голый, бесснежный конец ноября: экзематозный асфальт, диатезные стены зданий, псориазные монументы, мерзейший наждачный ветер, чередование грязи — то сухой, как иссохшая падаль , то чавкающей , предвещающей окончательный распад — грязи, разъедающей обувь, которую добываешь, конечно же, слезами, потом, униженьем, бесценными часами своей единственной земной жизни. Голый, бесснежный конец ноября: мучительное чередование дней темных и дней очень темных , чтобы человек осознал наконец, что и в сгущении тьмы нет обозримого для него предела »3.
Петербург Достоевского вызывает «чувство глубочайшего омерзения», у Палей — унижения.
В изображении Петербурга Достоевский выводит мотив городского подполья. Он не только с живописными подробностями изобразил городские трущобы, но в рассказе «Бобок» представил заблудившегося на кладбище героя, который слышит голоса мертвецов в могилах, чувствует в Петербурге подземный загробный мир, являющийся отражением земного мира [Хасиева]. Но если у Достоевского это еще имеет мистический оттенок, то у Палей склад, на котором работает героиня, буквально превращен в кладбище. Там еще с весны лежит труп собаки, который никто не убирает и который никого не смущает, а рядом устроен «стихийный туалет». Мертвое не со существует с живым, а вытесняет его.
Так, в романе «Дань саламандре» описана квартира, где делают подпольные аборты:
«Моим главным ужасом была непролазная грязь этой необъятной берлоги, в ушах сипело: “сепсис, сепсис, сепсис, сепсис…”» ( Палей , 2010).
И заметим, квартира названа берлогой, в другом месте будет «товарно-сортировочная станция». У Достоевского комнатушки часто похожи на «шкаф», «гроб», «сундук» или «морскую каюту» [Мехтиев], все эти слова обозначают то, чем человек может воспользоваться, и более или менее имеют отношение к человеческому существованию. Тогда как у Палей «берлога», очевидно, относится к существованию звериному, а «товарносортировочная станция» уподобляет человека товару, вещи.
Петербург Достоевского — «город полусумасшедших». Примечательно, что у Марины Палей в романе «Дань саламандре» тоже выделен этот аспект. Девочка, которую приютила героиня, является давней пациенткой психиатрической лечебницы.
Если у раннего Достоевского Петербург — это «город-призрак, с громадами домов и различного рода строений, теснящимися и давящими на маленького человека» [Мехтиев], то у Палей город человека уже раздавил. Хотя тот и продолжает подавать признаки жизни, но тьма сгущается и конец близок. И если в позднем творчестве Достоевский «не только констатирует обреченность Петербурга, но и желает его падения» [Хасиева: 47], то Марина Палей как раз продолжает с этого места, ее город уже смертельно болен, агонизирует (и лексика старческих болезней здесь не случайна, а лишь подчеркивает последний этап бренного существования города), но все еще мучает человека, обреченного в нем жить, человека, который не в силах изменить свой ареал обитания.
Наряду с рассмотренными особенностями изображения города, в котором обитают герои этих русских писателей, необходимо сказать о том, как герои Достоевского и Палей, живущие в разные исторические периоды, воспринимают свой частный быт.
У Достоевского Макар Девушкин начинает с того, что в письме к Вареньке описывает свое житье в комнатке у кухни: «кухня чистая, светлая, очень хорошая », «комнатка небольшая, уголок такой скромный », « все просторное, удобное , и окно есть, и все, — одним словом, все удобное . Ну, вот это мой уголочек » ( Д30 ; т. 1: 16).
Свое жилище он ласково называет «уголочек», просторный, удобный. И даже если на самом деле уголочек маленький и тесный, то герой возвышается, воспаряет над этой теснотой и своим внутренним видением превращает уголочек в просторный и удобный. Воображение человека Достоевского направлено на то, чтобы преобразить окружающий мир, сделать его пригодным для жизни.
Житье своих соседей Макар Девушкин описывает словами «тихо и смирно» ( Д30 ; т. 1: 24). «Тихо и смирно» — это описание бедности, но бедности благородной, когда семья стойко и с достоинством переносит все невзгоды. И этим гордым, достойным смирением вызывает уважение, сочувствие, сопереживание, светлый порыв души. Даже хочется сказать — чистоту. В то время как коммунальный быт, описанный в ранних произведениях Марины Палей, скорее ассоциируется с грязью: «…дед, который мочится в баночку, харкает на пол, стонет, не переставая, и ежечасно устраивает скандал моей выпотрошенной матери», «визгливый мат пролетарских соседей — из кухни, из коридора, из уборной, из их конуры», «у сына тик: дергается щека, шея, судорожно моргают глаза, кривится рот, издавая хрюкающий звук», за обследование ребенка «мать платит деньги, оторванные от еды, ребенку нужна диета, у него диабет, нет денег и нет продуктов» ( Палей , 1998: 111), «и они снова грызутся, как пауки в банке, у сына по-прежнему дергаются рот, щека, шея, веки» (повесть «Евгеша и Аннушка») ( Палей , 1998: 112).
У Достоевского персонажи живут пусть в бедности, но в чистоте и уважении, у Марины Палей бедность превращается в крайнюю пошлость, ругань, грызню, отсутствие или даже, скорее, невозможность достоинства. Жилье человека преобразуется в товарно-сортировочную станцию. Герой уже не способен ощутить уют.
Исследователи отмечают, что «на историческое прошлое Петербурга, отраженное в литературе, накладывается его советское прошедшее, застрявшее в постсоветском и упорно не отпускающее его», трущобы, в которых жили герои классической литературы, «породили питерскую коммуналку — совершенно особый тип жилья, с особыми отношениями между соседями и своими историями, долгими, тянучими и запутанными» [Созина: 178]. Эти коммуналки, отмеченные «городом-оборотнем», ярко изображает Марина Палей и показывает, как «как пошлость жизни “маленького человека”, обитателя петербургских углов, выродилась в еще более страшную и беспросветную пошлость жизни советского, а затем просто российского, но притом еще и питерского человека» [Созина: 179].
Тяжелые бытовые, социальные условия жизни человека от Достоевского к Палей ухудшаются, из поколения в поколение нарастает давящее чувство попранного достоинства, оттого герой Марины Палей уже находится на краю духовной пропасти и смотрит в нее:
«Кто-то должен выбыть из этого противоестественного симбиоза — именно физически выбыть <…> Но кто-то нашептывает имя человека, который сам хочет смерти (я отчетливо слышу имя, его нашептывают прямо в душу, оно корежится, пытаясь увернуться) <…> и знаю, что одной лишь такой мыслью моя душа загублена» ( Палей , 1998: 112).
Героиня предполагает скорую смерть соседки и возможность занять ее комнату, тем самым улучшив свои бытовые условия. Мысль эта — минутная слабость, отчаяние, ведь героиня всегда глубоко сочувствует своим престарелым соседкам. Но бытовые условия доводят ее до такого отчаяния, когда волей-неволей задумываешься о чужой смерти как возможности для своего бытового спасения. Героиня Палей осознает глубину падения и горячо раскаивается:
«Хотелось бы, конечно, чтобы Аннушка и Господь Бог простили меня за мои хищные мысли во сне, когда я была собой. Себя-то я не прощу» ( Палей , 1998: 113).
Осознание ужаса и глубины собственного падения, последующее жесточайшее раскаяние позволяет героине очиститься и духовно вырасти. Открывшаяся ей истина о самой себе — это тоже проявление бунта против пошлости жизни. Тем не менее это не меняет ее социально-бытовых условий, но подкрепляет ее желание сломать текущий строй, мечта ее и внутренний бунт не угасают, пусть ее единственное оружие против «священных чудовищ у кормушки верховной власти» — это память и творчество. Героиня обречена жить так, как живет, но это не делает ее кроткой и все принимающей.
Мысль о чужой смерти (убийстве) посещала и героя Достоевского, Родиона Раскольникова. Ведомый своей идеей, он идет на убийство и, совершив его, ощущает ужасающую отъ-единенность от человечества и раскаивается, начинается его перерождение. «Раскольников посягнул на нравственный закон “не убий”», но произошедшее далее показывает, что «преступление и совесть несовместимы, любое преступление бессовестно» [Захаров, 2013: 263], а у Палей и мысль о преступлении или извлекаемой выгоде за счет чужого несчастья бессовестна. Совесть, кроме творчества, один из тех духовных ресурсов, которые ведут человека к духовному перерождению. Духовно богатый герой у Достоевского и Палей глубоко совестлив.
Раскольников падает глубже героини Палей, и оттого его духовное перерождение серьезнее и заметнее.
В то же время духовное воскрешение возможно не только через рефлексию о своих поступках, но и через сочувствие чужой беде, горю другого человека. Например, Варвара Добро-селова сочувствует судьбе студента Покровского и его отцу, Макар Девушкин — соседу Горшкову и его семье. В текстах Марины Палей рассказчик испытывает глубокое сострадание к «маленькому человеку»: к болезни и старости (яркий пример — повесть «Евгеша и Аннушка» и бабушка героини из повести «Поминовение»). Автор жалеет беззащитных и слабых, которые не могут сами за себя постоять.
Еще один «маленький человек» изображен в повести Палей «Рая и Аад». Это история красивой, умной, талантливой женщины, которой, чтобы закрепиться на чужбине, выйти замуж, получить гражданство, нужно стать серостью, незаметным, досадным предметом обихода, лишенным человеческого достоинства. То есть героине нужно совершить обратный путь: из духовного человека, культурного, образованного превратиться в ветошку, в ничтожество.
Марина Палей, глубоко сочувствуя старости, болезненным состояниям человека, жестко порицает существование бездуховное, безнравственное, плотское, биологическое, когда индивид забывает о своей духовной составляющей и живет только желудком, плотским насыщением. Это соотносится с традицией Достоевского в том смысле, что писатель отстаивал самоценность сознания и духовного мира человека. В свою очередь Марина Палей активно протестует против всего того, что противостоит миру духовному. И, как и Достоевский, выступает против той литературы, где ценность человеческой жизни сводится к нулю.
Сопоставив социально-бытовые обстоятельства жизни персонажей, следует отметить, что в творчестве Палей в их изображении происходит усугубление. Но социально-бытовые обстоятельства не делают человека маленьким в экзистенциальном смысле, потому что одной из основных черт героя у Достоевского и Палей является его богатый внутренний мир и жизнь воображения — духовная жизнь, собственная «вселенная».
В прозе Достоевского это реализуется, как видно, в переписке Макара Девушкина и Вари Доброселовой: персонажи как бы воспаряют над косным мещанским мирком, творят свой собственный мир и в этом общении обретают полноту жизни.
В петербургском романе Палей «Дань саламандре» духовно богатая героиня также стремится уйти от косного мещанского мирка. «Полученный в детстве и юности опыт отзовется в рассказе героини долгим непониманием, точнее, нежеланием понять природу своей “сожительницы”» [Созина: 181]; при этом рассказчица до самого финала упорно отказывается расставаться с фантазией и признавать очевидное. И если герои Достоевского, воспаряя над реальностью, творя свою собственную, все же остаются в пределах объективной действительности, их воображение лишь помогает им жить в заданных обстоятельствах, то героиня Марины Палей обретает полноту жизни во снах, в фантазии, стремясь, насколько это возможно, вырваться из опостылевших условий. Она хочет уйти из этой действительности, не преобразить ее силой и богатством своего внутреннего мира, как у Достоевского, а именно уйти куда-то в другую реальность.
Сюжет любви у Достоевского реализован в романе «Белые ночи», где представлен тип духовно богатого мечтателя, для которого жизнь воображения «уравнивается по своей ценности с действительной жизнью, которая кажется ему холодной, угрюмой, вялой» [Евлампиев: 227]. Героиня же Палей своим беспросветным бытом и тяжестью существования доведена до того, что жизнь воображения по своей ценности превышает жизнь действительную. Действительность у Палей превращается в немыслимую пошлость, в то время как действительность Достоевского еще сохраняла некоторый оттенок скорбного благородства. У героя же Палей обстоятельства жизни вызывают тотальную усталость.
Герой физически вынужден жить в реальном мире, но его параллельный воображаемый мир не накладывается на реальный мир как волшебная пленка, духовно герой Палей переходит в другой, воображаемый мир и жаждет в нем и остаться. Герой Достоевского раскрашивает реальный мир. Эти краски и светлое чувство любви остаются с ним, даже когда фантазия разрушается. Когда же разрушается фантазия героя Палей, герой как бы падает с огромной высоты в реальный мир, пошлый, грязный и больной, он ошарашен, сбит с толку. Оказывается, что действительный мир иллюзорен и враждебен, а настоящие чувства, настоящая жизнь возможны только в фантазии.
Вместе с тем необходимо указать на одно принципиальное различие между человеком Достоевского и человеком Палей, которое как раз обнаруживает столь разное применение силы воображения.
Человек в мире Достоевского и в творчестве Палей — богат духовно, он мечтатель, силой своего воображения воздействует на окружающую действительность, склонен к самопознанию. Вместе с тем герой Марины Палей безгранично устал от ежедневного выживания, его духовные силы иссякают, он загнан в ловушку. Эта усталость — и есть принципиальное различие между героями обоих писателей. И в то время как человек Достоевского оскорблен тем, что его называют ветошкой или крысой писчей, его гордость уязвлена, он горячо и страстно возмущается, герой Марины Палей устал и может лишь тянуть лямку, иногда вырываясь на природу, получая глоток воздуха, или изливать свою желчь в трактат, который затем сам и сожжет. Указанная ситуация представлена в романе-бунте «Ланч». Герой обрушивается на общество с яростной критикой, но бунт его бесплоден. Это протест для самого себя. Герой запирается в квартире, отгородившись ото всего мира, уходит в интеллектуальные упражнения. Написав в своем Трактате всё, что думает, герой сжигает его, ибо, окончательно высказавшись, он исчерпывает возможности противостояния действительности.
Герой Достоевского использует воображение, чтобы легче переносить невзгоды, преображать или иначе воспринимать реальность, герой Палей жаждет эту реальность покинуть, создать другую, ей противоположную.
Герой Достоевского живет в бедности, но это тихая и благородная бедность и благородная скорбь, окрашенная гордостью, осознанием себя как личности, такая жизнь — гордое несение своего креста. Герой Марины Палей живет в грязи и пошлости, его окружает такой же город. Он мучительно осознает свое положение.
У Достоевского есть чудо воскрешения: «бесконечная сила живой человеческой души, которая способна возвыситься над всяким внешним насилием и над любым человеческим падением» [Плохарская], дает герою почувствовать себя достойным, гордиться собой, как бы воспарить над всеми проблемами. В творчестве Палей герой не столько бы хотел воспарить, сколько сломать текущий строй, но в этом деле его бесконечная сила вдруг исчерпывается (напр., роман «Ланч», пьеса «Погружение»).
Попытка воскрешения души звучит в романе «Дань саламандре». Героиня-рассказчица, начавшая уставать от жизни, сбегающая от нее в сны, ценность которых для нее выше ценности реальной жизни, проявляет сочувствие к бездомной девочке и берет ее на попечение, забирая в свою коммуналку. Девочка для рассказчицы становится любовью, идеалом, впрочем, в финале идеал трансформируется и становится чем-то совершенно противоположным, исключающим, отрицающим первое явление. В девочке, чье имя так и не названо, сочетаются идеал Мадонны и идеал содомский, что тоже отсылает к Достоевскому. Беря на себя заботу о девочке, вкладывая в нее душу и любовь, героиня Марины Палей обретает смысл жизни, в ней просыпается творческое начало, на фоне пошлости жизни она творит прекрасный мир.
В финале романа идеал Мадонны превращается в идеал содомский, все духовные усилия напрасны, красота оборачивается беспросветной пошлостью, пошлостью и пошлостью. Взаимная и всеобъемлющая любовь — столь важный концепт в творчестве Достоевского — в романе Марины Палей, с одной стороны, оказывается игрой циничного инфернального манипулятора, с другой стороны, существует лишь в воображении, тем самым утверждая превосходство мира воображаемого над иллюзорной объективной реальностью. Чем сильнее и трагичнее любовь у героя Достоевского, тем выше возможности для его роста. В романе Марины Палей трагичная любовь, драматическое раскрытие обмана, падение лишь ввергают героиню в еще большую пошлость жизни, показывая, что настоящая любовь, настоящая жизнь возможны только в крепком, цельном мире фантазий, но никак не в этой химеричной, зыбкой объективной действительности. Здесь следует указать на общий трагический мотив в творчестве Палей: в изображенном ею мире взаимной любви нет, она всегда омрачена бытовой пошлостью.
Вместе с тем в этом контексте несколько особняком стоит другая петербургская повесть Палей — «Кабирия с Обводного канала». Сила жизни, сила духа в героине настолько велика, что все выпадающие на ее долю невзгоды она переносит стойко и с улыбкой. Эта повесть, выбиваясь из общей атмосферы прозы Палей, воплощает в себе идеалы раннего Достоевского.
Достоевский показывает в «маленьком человеке» пробуждение личности, самосознания через сострадание к чужому горю, через любовь и творчество его герой возвышается и перестает быть «маленьким». У Марины Палей безысходность мрачнее, трагичнее, а жестокая социально-нравственная атмосфера переходит в беспросветную пошлость жизни, ее духовно богатый герой бунтует против социально-бытовых обстоятельств и, несмотря на усталость, всеми силами души стремится вырваться из них, хотя бой неравный.
Тем не менее, если герой духовно богат, имеет мечту и еще способен на бунт, пусть и не увенчавшийся успехом, то неправомерно называть его «маленьким человеком». Потому с экзистенциальной точки зрения герой Марины Палей, как и герой Достоевского, уже не «маленький человек», но Человек (с большой буквы) в социальных обстоятельствах «маленького человека», ищущий пути выхода из предопределенности.
Список литературы Концепция человека в прозе Марины Палей в контексте открытий Ф. М. Достоевского
- Ахшарумов Н. Д. «Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского // Литературная критика и эстетика. Череповец: ЧГУ, 2019. С. 147-172.
- Беляков С. С. Призрак титулярного советника // Новый мир. 2009. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/ Journal6_2009_1/Content/Publication6_1883/Default.aspx (07.12.2021).
- Евлампиев И. И. Петербург белых ночей в творчестве Ф. Достоевского // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. 2010. № 3. С. 225-233.
- Захаров В. Н. Что открыл Достоевский в «Бедных людях»? // Достоевский и современность: тезисы выступлений на «Старорусских чтениях». 1989. С. 37-41 [Электронный ресурс]. URL: https://portal-slovo. ru/philology/37165.php (11.03.2022).
- Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский: очерк творчества. М.: Ин-дрик, 2013. 456 с.
- Инь Л., Свитенко Н. В. «Маленький человек» Достоевского и Лу Синя // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 6-2 (84). С. 252-257 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ malenkiy-chelovek-dostoevskogo-i-lu-sinya (15.11.2021).
- Мехтиев В. Г. Еще о символах Санкт-Петербурга в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Studia Humanitatis. 2021. № 3 [Электронный ресурс]. URL: https://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/pdf/ mekhtiev_0.pdf (13.11.2021).
- Плохарская М. А. Метафизика любви и «Мысль сердечная» как константы в изображении «Маленького человека»: Гоголь, Достоевский, Чехов // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2009. № 2 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metafizika-lyubvi-i-mysl-serdechnaya-kak-konstanty-v-izobrazhenii-malenkogo-cheloveka-gogol-dostoevskiy-chehov (15.11.2021).
- Прасолова Ю. В. Творчество В. Л. Вещунова в контексте современной российской прозы о «Маленьком человеке» // Вестник Череповецкого государственного университета. 2016. № 1 (70). C. 63-68 [Электронный ресурс]. URL https://wwwtcbsu.ru/upload/ %81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20 2016%20-%201.pdf (07.12.2021).
- Сенчин Р. В. Если слушать писателей, все развалится [Электронный ресурс]. URL: https://zaharprilepin.ru/ru/litprocess/intervju-o-literature/ roman-senchin-esli-slushat-pisatelei-vse-razvalitsya.html (25.11.2022).
- Сипко Ю. Н. Экзистенциальное содержание петербургской прозы конца ХХ века: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Ставрополь, 2006. 224 с.
- Созина Е. К. Петербургский роман Марины Палей // Уральский филологический вестник. Серия: Русская литература XX-XXI веков: направления и течения. 2012. № 1. С. 178-185.
- Татаринов А. В. Вперед, к русскому неомодернизму // Наш современник. 2021. № 9. С. 233-249.
- Хасиева М. А. Петербург Достоевского: семиотика городского пространства в контексте развития петербургского текста // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 3 (69). Ч. 3. С. 45-47 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ peterburg-dostoevskogo-semiotika-gorodskogo-prostranstva-v-kontekste-razvitiya-peterburgskogo-teksta (14.11.2021).