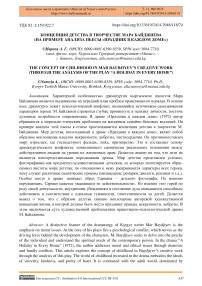Концепция детства в творчестве Мара Байджиева (на примере анализа пьесы «Праздник в каждом доме»)
Автор: Нарозя А.Г.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Характерной особенностью драматургии кыргызского писателя Мара Байджиева является выдвижение на передний план проблем нравственного порядка. В основе пьес драматурга лежит психологический конфликт, являющийся источником самодвижения характеров героев. М. Байджиев стремится глубже проникнуть в психику личности, постичь духовные потребности современника. В драме «Праздник в каждом доме» (1972) автор обращается к морально-этическим проблемам на материале семейно-бытовых коллизий. На примере анализа этой пьесы в статье прослеживается концепция детства в творчестве М. Байджиева. Мир детства, воссозданный в драме «Праздник в каждом доме», являет собой образное воплощение идеалов искренности, доброты, чистосердечия. Он противопоставлен миру взрослых, где господствуют фальшь, ложь, притворство. Это и составляет основу драматургического конфликта, позволяющего сценически реализовать отношения между действующими лицами на уровне их жизненных драм. Делается акцент на том, что дети не являются непосредственными персонажами драмы. Мир детства представлен условно, фотографиями как предметно-художественными деталями, из которых синтезируется образ- символ чистоты мира детства; по отношению к нему раскрываются характеры всех героев, чему служат различные сценические приемы (мизансцены, ремарки, диалоги, реплики и т.д.). Особое место в драме занимает образ Сармана – детского фотографа. По мнению окружающих, Сарман кажется «выпавшим из действительности». Но именно этот герой по роду своей деятельности, внутренним убеждениям и состоянию духа оказывается способным действовать в соответствии с идеалами гуманности, ответственности за детей. Делается вывод о том, что с образом детства связано воплощение авторской художественной концепции жизни, в которой должно быть место празднику правды, искренности, доброты. В этом заключается суть художественной проблематики нравственно-психологической драмы М. Байджиева.
Концепция детства, драма, конфликт, проблема, герой, символ
Короткий адрес: https://sciup.org/14133823
IDR: 14133823 | УДК: 82‑2:159.922.7 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/74
Текст научной статьи Концепция детства в творчестве Мара Байджиева (на примере анализа пьесы «Праздник в каждом доме»)
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 82‑2:159.922.7
В детской и юношеской литературе приоритетное значение всегда имели общечеловеческие ценности. Дети, являясь носителями лучших человеческих качеств, воплощали надежду на будущее. Эта устоявшаяся традиция является нормативной и для современного кыргызского писателя Мара Байджиева, который так определяет свое творческое кредо: «Я стремился говорить о вечных человеческих ценностях: любви, верности, дружбе, патриотизме…» [1].
В принципе, Мар Байджиев не относится к разряду детских писателей. Однако в творческом активе Байджиева-прозаика есть немало рассказов о детях и для детей, а в его пьесах так или иначе присутствует тема детства, воссоздаются образы детей. Анализ произведений этого тематического цикла позволяет утверждать, что у Байджиева сложилась своя концепция детства.
Детство — это тот удивительный возраст, «когда, как в сказке, человек растет не по дням а по часам, взбираясь по крутым ступеням познания мира и человека, добра и зла. Это познание не всегда радостное: подчас оно приносит такие открытия, от осознания которых сжимается юное сердце и накатываются горькие слезы [2, с. 6]. Думается, это суждение В. Вакуленко в достаточной мере отражает суть байджиевской концепции детства, воплощенной прежде всего в его рассказах. Это и первое столкновение с предательством («Когда гибнет Чапай»), и первое ощущение одиночества («Ищу друга»), и первое чувство любви («Моя золотая рыбка»), и первая горечь разочарования («Преступление и наказание, или Красные уши»).
В драматических коллизиях байджиевских пьес дети играют активную роль. По убеждению автора, дети должны брать от родителей все самое лучшее, с тем чтобы не повторять их ошибок. Сын Кожожаша («Древняя сказка») будет сильным и ловким, но не жадным и жестоким (может, не случайно Кожожаш и погибает именно тогда, когда рождается его сын). Сын Эрика («Жених и невеста») никогда не будет эгоистом и приспособленцем (вероятно, нежелание воспитывать сына в семье отца явилось одной из причин развода Гули и Эрика).
Дети — это праздник в каждом доме. У Нази («Дуэль») никогда не будет детей — и это трагедия. С образами детей автор связывает лучшие надежды на будущее, ибо, по справедливому суждению Мадины («Праздник в каждом доме»), «воспитывать мальчишек и девчонок — это ведь государственное дело. Возможно поэтому пьеса «Мы – мужчины» заканчивается обращением фронтовиков к детям с призывом беречь свою честь, как и честь Родины, а в пьесе «Наследники» финальная ремарка как бы дает наставление отцов подрастающему поколению.
Словом, проблема детства в творчестве М. Байджиева может и должна стать объектом самостоятельного изучения. Для того, чтобы наметить возможные пути исследования, мы обратимся к анализу одной из лучших пьес драматурга — «Праздник в каждом доме» (1972).
Дети не являются действующими лицами пьесы. Мир детства представлен условно – фотографиями как предметно-художественными деталями. В начальной ремарке, дающей описание сценического интерьера, отмечается: «Перед нами гостиная, обставленная импортной мебелью. На стенах висят большие портреты улыбающихся и смеющихся детей. В центре – самый крупный портрет, спящей девочки. Девочка улыбается во сне. Рядом голенький мальчик, снятый в рост. Он в белой панаме [3, с. 95].
Из этих фотографий и синтезтруется образ-символ чистоты мира детства. Он органично вплетается в образную ткань произведения и обрамляет собой драматургический сюжет. Вот финальная ремарка драмы: «Дверь распахнулась настежь. Веселые голоса за дверью: “С Новым годом! С новым счастьем!“ В комнату врывается шумная ватага соседей в масках. Они пляшут, прыгают, окружили наших героев, не дают вырваться из окружения, сняли со стен портреты, и начался хоровод детских портретов. Дети улыбаются во сне» [3, с. 131].
Мир детства, созданный драматургом, сопряжен с образом взрослого человека — Сармана, занимающем в пьесе особое место. Сарман – в прошлом «молодой, талантливый художник», а ныне фотограф быткомбината. Однако он не печалится по поводу потери «престижной» профессии, ибо не «стремится занять свое место на общественной лестнице». У Сармана своя творческая концепция: фотография предпочтительнее живописи. «Живопись, — утверждает Сарман, — это всего лишь фантазия художника. <…> И человека, например, художник красит разными красками, чтобы доказать, что он все-таки красив. <…> А фотограф ищет красоту в самой натуре. Чтобы человек сам выразил свою красоту, без подкрашивания и поправок, без меня [3, с. 114]. Сарман снимает только голых детей: «Дети – молодцы. Даже во сне улыбаются. Взрослые не нравятся сами себе, их надо подкрашивать и заворачивать в тряпки» [3, с. 114]. Он выбирает себе профессию по душе, и потому «дети в нем души не чают» и считают его настоящим волшебником. В диалоге с отцом Мадина вспоминает, как Сарман создавал один из портретов: «Целую неделю караулил – ждал, пока девочка улыбнется во сне. Кончилось тем, что муж приревновал свою жену и выгнал его. Перепуганная жена отказалась от портрета» [3, с. 99].
В представлении окружающих Сарман выглядит странным, «некоммуникабельным» человеком. Но именно этот герой по роду своей деятельности, внутренним убеждениям и состоянию духа оказывается способным действовать в соответствии с идеалами гуманности, ответственности за детей.
Творческая концепция становится жизненной позицией Сармана. Он не терпит фальши и искусственного приукрашивания и потому выбрасывает в окно синтетическую елку и выпроваживает Деда Мороза и Снегурочку из бюро добрых услуг. Он не любит намеков, говорит прямо, что выражается в его резких репликах. Он не умеет притворяться и потому «портит» праздник, нарушая продуманную игру «комедии ошибок».
Симпатии Байджиева на стороне Сармана. Однако автор отнюдь не идеализирует своего героя, а, напротив, осуждает его за неумение и неспособность отстоять истину. Сарман не уверен в своей правоте и даже чувствует себя виновным в том, что живет не так. Он не может бороться и признается в этом Даиру Мусаевичу: «И вообще я многого не могу. Вот сейчас я бы хотел выти во двор и повыть, а я кроссворды загадываю, изошутки, фальшь!» [3, с. 115]. Он не знает, как бороться, и потому недоумевает по поводу его осуждения Даиром Мусаевичем: «Бороться… За истину? А с кем?» [3, с. 120].
Осмысление жизненной драмы Сармана предстает через воспроизведение его действий путем осмеяния. Комический эффект создается за счет несоответствия возраста героя и его поведения. По сути, перед нами — взрослый ребенок, «напроказивший мальчишка», шмыгающий носом, сосущий палец, выпивающий «за детей» стакан молока вместо традиционного шампанского, послушно выполняющий наказы «старших» и непосредственно реагирующий на их замечания. «А мама все о внуке мечтает. Зачем? Когда в доме есть вот такой товарищ!» [3, с. 98], — восклицает по этому поводу Мадина.
По сути, в образе Сармана сочетаются различные стороны детского характера – наивность и беспомощность, непосредственность и беззаботность, искренность и безволие. Одни позволяют герою осознавать истинное положение вещей, а другие не позволяют противостоять ему.
И только со смертью матери Мадины к нему приходит осознание своей правоты. Он решается покинуть этот дом в надежде найти тех, кто поймет его. «Мама всех понимала и мирила нас. А когда ее не стало, я оказался совсем один, — аргументирует свой уход Сарман. — Разве я виноват в том, что люблю смех детей? Если ребенок улыбается, — значит все хорошо, значит, нет войны, а в семье есть любовь и есть счастье, которое приходит в каждый дом, как утро, например…» [3, с. 126].
Но вскоре Сарман возвращается, и при этом «чем-то напоминает блудного сына, вернувшегося в отчий дом» [3, с. 131], осознавая, что невозможно уйти от самого себя и надеясь на праздник в своем доме.
Характеры всех героев пьесы раскрываются в отношении к миру детства. В связи с этим драматург прослеживает эволюцию каждого героя, чему способствует своеобразное построение драматургического сюжета. Драма состоит из двух действий, разделенных кульминационным моментом, каким становится смерть матери Мадины в конце первого действия. Эта страшная весть, как отмечает Г. Хлыпенко, «проносится от одного героя к другому, как грозная очистительная сила» [4], обнажая души героев и помогая постичь жизненную драму каждого из них. После кульминационного момента действие развивается в противоположном направлении. Происходит срывание масок, и герои предстают перед нами с обнаженными душами, подобно голым детям на фотографиях Сармана.
Сарман фотографирует только детей, но вместе с тем, прощаясь с Даиром Мусаевичем, дает обещание: «Я сделаю ваш портрет… крупным планом. Вот таким, какой вы есть. Лицо большого ученого и большого… человека» [3, с. 120]. А, узнав о смерти матери Мадины, искренне сожалеет: «Я мечтал сделать ее портрет… И… не успел…» [3, с. 123]. Значит, портретами этих персонажей можно было бы пополнить галерею фотографий детей, символизирующих собой образ чистоты мира детства. Значит, в них сохранились та детская искренность и доброта, с позиций которых оценивает окружающий мир Сарман. И, конечно же, не случайно именно эти герои понимают Сармана и сочувствуют ему.
Совсем иными в отношении к миру детства предстают Мадина и Азат Султанович. В первом действии отец и дочь, тщательно готовясь к встрече «большого человека», стремятся выглядеть «на уровне». Приводя в порядок комнату по образцу французского фильма, они решают на время снять со стены портрет спящей девочки, который «теперь не смотрится» и никак не вписывается в модный интерьер. Азат Султанович исключает Сармана из своего мира, в котором господствуют фальшь и лицемерие, и потому испытывает к нему раздражение, недоверие и даже презрение. Он недоумевает по поводу «непрестижной» профессии зятя и выносит ему свой приговор: «Вам сорок, но вы еще никто» [3, с. 126].
Подобно отцу, осуждает мужа Мадина: «Совсем опустился. Ничего тебе не нужно. Можешь только молчать или плакаться, что нет ребенка. А чем я буду кормить малютку, тебя не волнует. <…> Бросил живопись, занялся фотографией. Но и тут у тебя ничего не получается. К тебе никто не идет сниматься, кроме детей…» [3, с. 121–122].
Этим неприятием Сармана, его творческой концепции и жизненной позиции создаваемых им произведений Мадина и Азат Султанович выражают свое отношение к миру детства и в соотнесении с ним выявляют свой нравственный потенциал. Интересная деталь: отец не воспринимает дочь как ребенка, хотя Сарман воспринимается ими обоими как ребенок. Думается, это объясняется разными правилами разных игр. Мадина и Азат Султанович играют во взрослые игры, изощряясь в лживости и притворстве. Сарману же по душе детские игры с их беззаботностью и непосредственностью.
Во втором действии расстановка действующих лиц существенно меняется. Со смертью матери к Мадине приходит осознание того, что главное в жизни — забота о человеке, о его душе. Сама того не замечая, она становится на позицию Сармана. Мадина вдруг поняла, почему прожила с ним столько лет, хотя ссорилась каждый день. «В нем сохранилось то, чего нет в других — в тебе, например, во мне. Может поэтому он кажется странным и, как ты говоришь, выпавшим из действительности…» [3, с. 128], – объясняет она отцу. Мадина вдруг ощутила себя ребенком и захотела стать матерью. «Я хочу быть матерью. Обыкновенной матерью — чтобы в доме было много праздников и чтобы дети наши всегда улыбались…» [3, с. 129-130], — произносит в момент прозрения Мадина.
Потрясенный случившимся, иначе ведет себя Азат Султанович. Теперь Мадина для него – та маленькая девочка, которую подарила ему его жена, когда-то заглушив его «боль, тоску по шуму горных рек, по запаху родных степей», благодаря которой он выстоял и «дожил до справедливых дней» [3, с. 129].
К финалу драмы перед нами уже три совершенно иных героя, иначе предстающих в своих отношениях с миром детства. Они готовы творить его сами, они ожидают праздника в своем доме.
Таким образом, мир детства, воссозданный в драме Мара Байджиева «Праздник в каждом доме», являет собой образное воплощение идеалов искренности, доброты, чистосердечия. Он противопоставлен миру взрослых, где господствуют фальшь, ложь, притворство. Это и составляет основу драматургического конфликта, позволяющего сценически реализовать отношения между действующими лицами на уровне их жизненных драм.