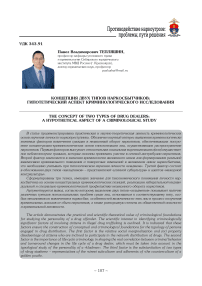Концепция двух типов наркосбытчиков: гипотетический аспект криминологического исследования
Автор: Тепляшин П.В.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения
Статья в выпуске: 2 (59), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье продемонстрирована практическая и научно-теоретическая ценность криминологических основ изучения личности наркопреступника. Обозначен научный интерес выявления криминологически значимых факторов вовлечения граждан в незаконный оборот наркотиков, обеспечивающих построение концептуально-криминологических основ типологизации лиц, осуществляющих распространение наркотиков. Первым фактором выступает относительная социальная маргинализация и(или) имущественное неблагополучие граждан, которые склонны принимать участие в сетевой дистрибуции наркотиков. Второй фактор заключается в значении криминологии жизненного цикла для формирования реальной взаимосвязи криминального поведения и поворотных изменений в жизненном цикле наркосбытчика, что необходимо учитывать при типологическом изучении личности «кладмена». Третий фактор состоит в обосновании двух типов «закладчиков» – представителей «уличной субкультуры» и адептов «мажорной контркультуры». Сформулированы три тезиса, имеющих значение для таксономического понимания личности наркосбытчика на основе концептуальных криминологических позиций, реализации избирательной индивидуальной и специально-криминологической профилактики незаконного оборота наркотиков. Аргументируется вывод, согласно которому выделение двух типов «складменов» показывает наличие различных трендов психосоциальных проблем среди лиц, относящихся к соответствующему типу, особых механизмов их вовлечения в наркосбыт, особенностей включенности этих лиц в процесс получения криминальных доходов от сбыта наркотиков, а также разнородную степень их общественной опасности и криминальной активности.
Криминальный образ жизни, корыстная мотивация, наркодистрибуция, немедицинское потребление, продажа наркотиков, профилактика наркопреступности, типологизация наркосбытчиков
Короткий адрес: https://sciup.org/140310207
IDR: 140310207 | УДК: 343.91
Текст научной статьи Концепция двух типов наркосбытчиков: гипотетический аспект криминологического исследования
Проблема незаконного оборота наркотиков уже перешла границу лишь социально ориентированной угрозы, выступающей предметом исследования со стороны ряда отраслей знаний – уголовного права, криминологии, социологии, наркологии, оперативно-розыскного права, экономики. В настоящее время наркопреступность коренным образом угрожает должному состоянию антикриминальной безопасности общества и государства. Так, защита общественных и государственных ценностей от наркотической угрозы выступает не просто деятельностью соответствующих субъектов, но приобретает, по сути, витальное (экзистенциональное) значение, поскольку сопряжено с самим фактом существования нации, ведь современные наркотические вызовы обладают значительным деструктивным воздействием на здоровье населения, приобретают инверсионный характер, так как способны разрушать традиционные духовно-нравственные ценности, имеют разноуровневые и скрытые источники и поэтому не всегда поддаются результативной профилактике. На это указывает весьма объемный перечень угроз национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту, представленный в разделе III Стратегии государственной антинаркоти-ческой политики Российской Федерации на период до 2030 года. Следовательно, необходимы системные и глубоко проработанные меры профилактического воздействия на сферу незаконного оборота наркотиков. Как представляется, областью знаний, способной объединить и аккумулировать механизмы указанного воздействия, выступает криминология. Соответственно, именно криминология в первую очередь должна предлагать механизмы реагирования на далеко не простые нарковызовы – причем желательно научно обоснованные, целевые и результативные.
Предварительно следует отметить значительную практическую ценность криминологических основ методологического и концептуального изучения личности преступника, ведь понимание личности наркопреступника (лица, совершившего общественно опасное деяние) позволяет выстроить адекватную и эффективную систему ранней профилактики наркопреступлений, создать комплекс мер направленного профилактического воздействия, сформировать должный арсенал средств посткриминального обращения с данными лицами.
На этом фоне существенный научный интерес представляют криминологически значимые факторы вовлечения граждан в незаконный оборот наркотиков. Безусловно, существует значительное пересечение данных факторов, их взаимодополняемость и создание существенной криминальной «гравитации» от их комплексного действия на общественную среду, социальные группы и отдельных лиц.
Более того, на основе данных факторов можно выстроить концептуально-криминологические основы типологизации лиц, осуществляющих распространение наркотиков. Ведь следует признать, что криминологическая доктрина не обладает результатами глубоких исследований в области типологизации личности лица, осуществляющего наркосбыт. В основном исследования ориентированы на выделение типов «обобщенного» наркопреступника либо обладающих определенными качествами по профессиональным свойствам лиц (в частности, по особенностям принадлежности к служебной деятельности) [3], уголовно-правовым признакам (например, при различных формах соучастия, совершения деяния, предусмотренного конкретным составом преступления) [5] или с позиций психологического анализа наркозависимого преступника [4]).
Итак, первым фактором выступает относительная социальная маргинализация и(или) экономическое (имущественное) неблагополучие граждан, которые склонны принимать участие в сетевой дистрибуции наркотиков, выполняя функции так называемых «закладчиков» («кладменов»). Так, путем реализации метода случайной выборки приговоров (всего изучены 3247), вынесенных в период с 2017 г. по 2024 г. включительно) судами общей юрисдикции (первая инстанция) по наркопреступлениям, были получены данные об удельном весе лиц с корыстной мотивацией в преступлениях, сопряженных со сбытом наркотиков. Исследование осуществлялось на интернет-ресурсе «Судебные решения РФ» сплошным способом по всем годам указанного периода (362, 441, 429, 328, 464, 383, 498 и 342 приговоров за каждый соответствующий год) и с соблюдением принципа статистической случайности отбора приговоров, то есть в рамках относительно однородной статистической совокупности исходных данных, что позволяет говорить о его достаточных репрезентативных результатах. Так, удельный вес рассматриваемых деяний, совершенных с корыстной мотивацией (установление данного мотива осуществлялось на основе комплексного толкования обстоятельств совершаемых преступлений), составил приблизительно 68%.
В качестве второго фактора можно обозначить роль криминологии жизненного цикла, которая показывает взаимосвязь криминального поведения и поворотных изменений в жизненном цикле человека, в частности, развод родителей, трудоустройство на первую работу, серьезная болезнь близкого родственника, распад семьи. Можно уточнить, что данное комплексное учение позволяет объяснить криминальную активность людей через призму анализа механизмов влияния определенных событий на разных этапах жизни на развитие их преступного поведения. Как верно отмечается в специальных исследованиях, «криминология жизненного цикла утверждает, что адаптации к траекториям и переходам важны для понимания процессов вовлечения в преступность» [6, р. 901]. Думается, что теоретические постулаты криминологии жизненных циклов в полной степени подходят к практике вовлечения людей в сферу наркосбыта и незаконного распространения наркотиков, должны учитываться при типологическом изучении личности наркосбытчика.
Третий фактор обусловлен существованием своеобразной и условно (с учетом широкой практики бесконтактного сбыта наркотиков) «уличной субкультуры», особенность которой состоит в том, что в ней сочетается поиск молодежью финансовой автономии с криминальным образом жизни, основанном на наркоторговле. Как представляется, в «уличную субкультуру» вовлечена так называемая NEET-молодежь (аббревиатура NEET имеет английское происхождение: Not in Employment, Education or Training1), охватывающая людей в возрасте от 15 до 24 лет, не имеющих постоянного места учебы или работы, не участвующих в профессиональной подготовке и не осуществляющих поиск со- зидательного вида деятельности. Как постулируется М.Б. Булановой и В.В. Костенко, присутствие «молодого человека в категории NEET-молодежи оказывает влияние на всю его дальнейшую жизнь, социальное и экономическое благополучие. У подобных молодых людей гораздо меньше шансов на высокий уровень и стабильность доходов, их преследуют бедность, проблемы со здоровьем. Также часть из них проявляет повышенную склонность к противоправной деятельности и участию в различных преступлениях, часто имеет психические отклонения и проблемы с алкоголем, употреблением и распространением наркотиков» [1, с. 123]
Также можно выделить «мажорную контркультуру», которая ассоциируется с рекреационным пространством и поведением людей, обладающих стабильно высокими или даже значительными финансовыми возможностями (ресурсами), включенными в распространение наркотиков друзьям и знакомым за символическую или даже нулевую стоимость. Соответственно, немедицинское потребление наркотиков представителями «уличной субкультуры» имеет заместительную цель, то есть создание иллюзии личного и(или) социального благополучия, тогда как адептами «мажорной контркультуры» – гедонистического образа жизни. Так, применительно к представителям «уличной субкультуры» можно привести результаты исследования основных психических образов мира лиц, ранее употреблявших наркотики, с применением проективной методики «Образ мира», согласно которым «большая часть испытуемых (72,8%) довольно сильно сконцентрированы на своей проблеме и им не хватает позитивных переживаний» [2, с. 257].
Данные особенности необходимо учитывать в деятельности соответствующих субъектов, осуществляющих профилактику немедицинского потребления наркотиков. Однако в целях дальнейшей более рельефной характеристики обозначенных типов наркосбытчиков допустимо проводить исследования в разрезе их культурологического, психологического, криминалистического, оперативно-розыскного анализа.
Совместный учет изложенных трех факторов позволяет выделить первый тезис: ранний этап (безусловно, существует и условно «зрелый» этап) наркотической маргинализации (в основном это возраст от 13 до 17 лет) свойственен для лиц «уличной субкультуры», жизненный цикл которых охватывал психосоциальные проблемы и ранние проявления девиантного поведения, ставшие частью механизма детерминации их правонарушений. Подобный тренд не свойственен для адептов «мажорной контркультуры», поскольку наркотическая траектория их поведения охватывает молодежный возраст (преимущественно возраст от 17 до 24 лет) и предполагает вовлеченность в незаконный оборот наркотиков преимущественно через потенциальных состоятельных клиентов, а также в силу поддержания бравурного и бомондовского стиля общения в рекреационном пространстве.
С учетом вышеизложенного первого тезиса следует подчеркнуть желание законодателя очертить пространственные границы, в пределах которых сбыт наркотиков приобретает повышенную общественную опасность. Так, уголовно-правовой запрет, предусмотренный ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, содержит квалифицирующий признак «сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, на территории воинской части, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга». Однако, продолжая логику законодателя, не совсем ясно – почему действие этого признака не распространяется на общественные места вблизи школ и в целом образовательных организаций, на места отдыха населения (например, на парки, скверы, специально оборудованные пляжи). В этой связи допустимо, с некоторой долей условности, провести параллель с практикой введения в ряде зарубежных стран (в частности, в США) так называемых «зон, свободных от наркотиков» (drug-free zone (DFZ)). По этому поводу исследователями отмечается, что «в 1970-х годах, законодательство о DFZ было принято во всех пятидесяти штатах к середине 1990-х годов. Эти законы создали DFZ в общественных местах вокруг школ, общественного жилья, игровых площадок и парков, а также в других местах, таких как коммерческие районы. Зоны, свободные от наркотиков, обозначают территории, в которых к лицу, арестованному за продажу, изготовление или хранение с целью продажи любой формы контролируемого вещества, могут быть применены усиленные карательные санкции» [8, р. 631]. Обозначенная практика также усиливает основания для законодательно расширения пространственных границ, в пределах которых сбыт наркотиков будет носить более высокую общественную опасность.
С криминологической точки зрения следует учитывать рассмотренную типологиза-цию наркосбытчиков применительно к территориям и местам, в пределах которых сбыт наркотиков повышает его общественную опасность. Степень и характер криминальной активности лиц «уличной субкультуры» и «мажорной контркультуры» неоднородны в пределах рассмотренных пространственных границ. Кстати, результаты применения организационно-правовых мер относительно «зон, свободных от наркотиков» показали, что данные пространственные территории, функционирующие в период первых двух десятилетий XXI века в одном из южных штатов США, «были более сконцентрированы в районах, характеризующихся высокой и крайней нищетой. Такое неравномерное распределение создавало риск гиперкриминализации для тех, кто зарабатывал на жизнь продажей наркотиков в беднейших районах» [8, р. 673]. Данный опыт нельзя игнорировать в отечественной правоохранительной деятельности и криминологических исследованиях. Думается, что средства, меры и формы профилактического воздействия, в том числе ресоциализирующего характера, следует реализовывать дифференцированно, то есть ставить в зависимость от типологических особенностей личности наркосбытчика.
В соответствии со вторым тезисом существуют различные уровень и характер вовлеченности рассматриваемых лиц в предикативную преступную деятельность. Так, лица «уличной субкультуры» в большей степени вовлечены в совершение общеуголовных преступлений. Причем совершение ими как общеуголовных преступлений, так и «наркозакладок» направлено преимущественно на получение денежных средств для приобретения наркотиков с целью личного немедицинского потребления. Применительно к данной группе лиц можно наблюдать рост их криминальных доходов пропорционально длительности немедицинского потребления наркотиков. Данная криминологическая закономерность была обнаружена уже достаточно давно. Так, допустимо привести результаты исследования, проведенного еще в конце 90-х годов Мэри К. Харрис (Mary K. Harris), которая констатировала, что «потребители героина тратили 90 центов каждого незаконно заработанного доллара на наркотики… Преступная деятельность наркоманов снизилась на 84 процента за несколько лет или даже месяцев, в течение которых они воздерживались от употребления героина или других опиатов» [7, р. 68].
Третий тезис показывает более значительный вклад представителей «уличной субкультуры» в получение криминальных доходов наркобизнесом. Это обусловлено высокой степенью ротации «закладчиков», привлекаемых к уголовной ответственности, то есть сменой их новыми «кладменами». Кроме того, именно рассматриваемая группа лиц характеризуется их значительной включенностью в механизм получения криминальных доходов от сбыта наркотиков.
В связи с этим целесообразно привести результаты исследования, проведенного зарубежными коллегами по схожей научной тематике. Так, установлено, что не менее половины фактов наркосбыта совершаются лицами, проживающими в так называемых «бедных» районах, испытывающими «тяготение»
к корыстной мотивации своего поведения и обладающими незначительными реальными шансами на высокий уровень и стабильность криминальных доходов [9, р. 7].
Представители «мажорной контркультуры» в минимальной степени склонны к совершению общеуголовных преступлений, и в основном длительность потребления ими наркотиков не влияет на их криминальную активность.
Резюмируя изложенное, следует заключить, что представленная типологизация отражает соответствующий способ криминологической трактовки двух типов наркосбытчиков. Концептуальной основой данной типологизации выступает идея комплексности пространственно-временных и личностно-цикличных качеств лица, осуществляющего сбыт наркотиков. Наличие данной идеи как ведущего замысла таксономического понимания личности наркосбытчика позволило подойти к рассматриваемой типологизации с концептуальных позиций. Соответственно, концепция двух типов наркосбытчиков является криминологической гипотезой, а не полностью состоявшимся и до конца научно обоснованным учением. Более того, в данной статье категория «концепция» используется как исследовательский подход, а не как система взглядов стратегического характера, выражающая ведущий замысел изучения личности преступника.
Выделение двух типов наркосбытчиков продиктовано практической целесообразностью и задачами правоохранительной деятельности по результативной профилактике незаконного оборота наркотиков на уровне так называемой сетевой наркодистрибуции. Ведь на данном уровне целесообразно осуществлять избирательную индивидуальную профилактику и специально-криминологическую, но уже с учетом типологического подхода к относительно обособленной группе лиц.
Таким образом, изложенные факторы способны приблизить криминологию к построению концептуальных основ типологиза-ции лиц, осуществляющих распространение наркотиков. При этом сведения об относительной социальной маргинализации и(или) имущественном неблагополучии граждан, которые склонны принимать участие в сетевой дистрибуции наркотиков, выступают лишь пропедевтикой криминологической идентификации исследуемых лиц, тогда как постулаты криминологии жизненного цикла и учение о субкультурном многообразии социальной среды действительно способны приблизить к пониманию типологических особенностей наркосбытчиков. Выделение двух типов «кладменов» – представителей «уличной субкультуры» и адептов «мажорной контркультуры» – показывает наличие различных трендов психосоциальных проблем лиц, относящихся к соответствующему типу, механизм их вовлечения в наркосбыт, разнородную степень их общественной опасности и криминальной активности, характер включенности в процесс получения криминальных доходов от сбыта наркотиков.
Также необходимо констатировать, что концепция двух типов наркосбытчиков выступает лишь криминологической гипотезой и в методологическом смысле демонстрирует постановку проблемы, имеющей весомую значимость для конструктивной профилактики наркопреступности на уровне сетевой наркодистрибуции. Именно на данном уровне целесообразно осуществлять избирательную индивидуальную и специально-криминологическую профилактику, опираясь на типологический подход к личности наркосбытчика, сочетая достижения криминологической науки и возможности общих и специализированных субъектов противодействия наркопреступности.