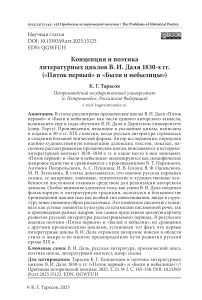Концепция и поэтика литературных циклов В. И. Даля 1830-х гг. («Пяток первый» и «Были и небылицы»)
Автор: Тарасов К.Г.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены прозаические циклы В. И. Даля «Пяток первый» и «Были и небылицы» как части единого авторского замысла, возникшего еще в годы обучения В. И. Даля в Дерптском университете (совр. Тарту). Произведения, входящие в указанные циклы, написаны и изданы в 30-е гг. XIX столетия, когда русская литература стремилась к созданию большой эпической формы. Автор исследования, определяя идейно-художественную концепцию далевских текстов, показал, насколько рассматриваемые прозаические циклы вписываются в историко-литературный контекст 1820–1830-х гг. и какое место в нем занимают. «Пяток первый» и «Были и небылицы» анализируются как специфическое жанровое единство и сравниваются с произведениями В. Т. Нарежного, Антония Погорельского, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. Ф. Одоевского, М. Н. Загоскина. В статье доказывается, что именно русская народная сказка, ее жанровые, языковые, тематические и художественные особенности послужили главным средством для реализации авторского замысла. Особое внимание уделяется тому, как умело В. И. Даль соединял фольклорную и литературную традиции, используя в большинстве произведений циклов сказ как особый тип повествования, вводя в структуру повествования образ рассказчика. Это позволило писателю сталкивать как устные элементы культуры со штампами письменной речи, так и произведения разных жанров, тем самым представляя цельную картину развития русской литературы рассматриваемого периода. В результате анализа поэтики «Пятка первого» и «Былей и небылиц», их сравнения с другими прозаическими циклами, установлен тот факт, что первые литературные циклы В. И. Даля отражали авторские поиски в области стиля и жанра и во многом предопределили пути развития русской прозы XIX в.
В. И. Даль, русская литература, прозаический цикл, поэтика цикла, литературный контекст, жанр, сказка
Короткий адрес: https://sciup.org/147248211
IDR: 147248211 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15123
Текст научной статьи Концепция и поэтика литературных циклов В. И. Даля 1830-х гг. («Пяток первый» и «Были и небылицы»)
В 1830-е гг., в начале своего творческого пути, В. И. Даль создает два литературных цикла. Книга «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый» была издана в 1832 г. в петербургской типографии А. Плюшара. Второй цикл, состоящий из четырех книг, выходил в течение 1833–1839 гг. (СПб., тип. Н. Греча) под общим заглавием «Были и небылицы Казака Луганского».
Таким образом, далевские прозаические циклы, с учетом первой сказки «Сила Калиныч, душа горемычная, или Русский солдат ни в аду ни в раю», завершенной зимой 1828–1829 г. [Фесенко, 1996: 123] и по цензурным соображениям не вошедшей в первое издание «Пятка первого», охватывают целое десятилетие развития русской прозы, которая именно в этот период тяготеет к созданию большой эпической формы. Специфические условия и причины этого явления изучены и зафиксированы такими исследователями, как В. С. Киселёв [Киселёв], Л. Е. Ляпина [Ляпина], И. В. Фоменко [Фоменко] и др. Известен факт, что свою повесть «Цыганка», вошедшую в первую книгу «Былей и небылиц», В. И. Даль вместе с одной из сказок «Пятка первого» отправляет Н. А. Полевому для издания в журнале «Московский Телеграф»:
«Предлагаю Вам Цыганку мою на суд и благорассмотрение — а если угодно — Ивана без роду без племени, горемычную голову, угнетаемого Губернатором Графом Чихирем пятачной головой, получившего в награждение услуг своих мундир из одних выпушек, по кресту на пуговичку, по банту на петличку!» (цит. по: [Фесенко, 1994: 11]).
На основании приведенного литературного факта можно предположить, что и «Пяток первый», и «Были и небылицы» являлись частями общего авторского замысла, возникшего еще во время обучения Даля в Дерптском университете.
Анализируя сказки, входящие в «Пяток первый», Ю. П. Фесенко отметил, что этот литературный цикл «подводил своеобразный итог предшествующему литературному развитию, способствовал более углубленному постижению проблемы народности и принципиально намечал дальнейшие пути становления русской прозы» [Фесенко, 1996: 137]. Исследователь также обратил внимание на то, что Даль «разнообразно "процитировал" практически все значимые литературные стили первой трети XIX в.» [Фесенко, 1996: 137], и рассмотрел его ранние литературные произведения в контексте всего творческого наследия автора [Фесенко, 1999]. Продолжая говорить о «Пятке первом» как о цикле, К. Г. Тарасов указал на сказ как на особую форму повествования в сказках, а также отметил особенности использования пословично-поговорочного материала [Тарасов]. Н. Л. Юган в монографии, посвященной «Былям и небылицам», рассмотрела особенности сюжетики, проблематики, систему образов, композиционные особенности текстов, входящих в этот цикл, доказав, что данные тексты необходимо рассматривать как специфическое жанровое единство [Юган, 2006]. Она же подробно описала новаторские принципы сказочного творчества В. И. Даля [Юган, 2013]. Автора данной статьи прежде всего интересует, насколько далевские прозаические циклы вписываются в историколитературный контекст 30-х гг. XIX в. и какое место «Пяток первый» и «Были и небылицы» в этом контексте занимают.
После издания циклов В. Т. Нарежного «Славенские вечера» (1826) и Антония Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828) интерес к таким жанровым образованиям заметно возрос. Один за другим появляются циклы А. С. Пушкина «Повести Белкина» (1831), Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832), «Миргород» (1835), В. Ф. Одоевского «Пестрые сказки» (1833), М. Н. Загоскина «Вечер на Хопре» (1834), Н. А. Полевого «Повести Ивана Гу-дошника» (1843) и многие другие.
В одном из своих обозрений русской словесности начала 30-х гг. XIX столетия И. В. Киреевский сравнивал русскую литературу с ребенком, «который только начинает чисто выговаривать», и, подчиняясь духу времени, ставил вопрос о необходимости новой философии: «Но откуда придет она? Где искать ее? Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все другие народы. <…> Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта» [Киреевский: 101, 68].
Высказывание Киреевского напрямую связано с проблемой народности, которая «оказывается в центре литературной борьбы» [Лотман: 325] начиная с первого десятилетия XIX в., что свидетельствует об осмыслении чрезвычайно важного момента в развитии искусства и литературы. Именно в рассматриваемый период национальный колорит пронизывает литературное произведение, находя отражение в выбранных темах и затронутых вопросах, в характере героя, в осмыслении его единства с окружающей действительностью, его роли в развитии исторических событий, оказывает влияние на художественный метод, отчетливо проявляется в стилистике работ, в применении родного языка, фольклорных мотивов, формирует эстетические ценности.
Стремление литературы к реализации принципов народности приводило к тому, что художник опирался, «с одной стороны, на культурно-исторический опыт образованных слоев, а с другой — на непосредственные проявления массового сознания как в социальной действительности, так и в народном искусстве» [Мущенко, Скобелев, Кройчик: 9]. Именно такое стремление литературы явилось основной причиной ее тяготения к сказке, преимущество которой перед другими жанрами в том, что присущие ей особенности давали возможность многообразного ее использования для выполнения различных авторских задач. Характерные особенности жанра сказки: широта охвата жизненных явлений, четкость социальных и моральных идеалов, яркость и типичность художественных образов, отражающих специфику национального характера, фантастика и в то же время органическая связь с реальной жизнью, стиль и язык — оказались привлекательными для литераторов. Многие авторы прозаических циклов рассматриваемого периода активно обращаются к устному народному творчеству. Так, в произведениях Н. В. Гоголя, Антония Погорельского, В. Ф. Одоевского, М. Н. Загоскина сюжетной основой стали былички, легенды, предания с присущей им специфической системой образов (русалки, черти, ведьмы, домовые и т. д.), поэтикой ужасного и фантастического, загадочного и непостижимого. В произведениях Антония Погорельского («Лафертовская маковница»), В. Ф. Одоевского («Игоша»), М. Н. Загоскина («Неожиданные гости») встречаются русские былички, а у М. П. Погодина («Суженый») — календарный обряд (гадание). В этих текстах фольклорные элементы применяются для придания особого колорита, изображения народных черт характера, введения в повествование фантастических мотивов и обоснования сюжетных линий. Использование лишь отдельных жанров устного творчества в циклах 1820–1830-х гг. не дает возможности для формирования полноценного и непредвзятого взгляда на народную жизнь. Исключение из этой тенденции представляют циклы Н. В. Гоголя, но при многообразии представленных им фольклорных жанров в стремлении постичь и выразить «дух народа» писатель показал национальную народную действительность не во всех ее сущностных проявлениях и преимущественно в идеализированном виде (см.: [Юган, 2006: 106–130]. Фольклорная сказка здесь осталась в стороне.
Для В. И. Даля ключевым источником вдохновения при создании «Пятка первого» и «Былей и небылиц» являлась именно народная сказка. Автор использует сказку во всем богатстве сюжетов, мотивов, образов, жанровых разновидностей, разном бытовании (в устных и лубочных вариантах). Интерес Даля к данному жанру вполне закономерен, ведь именно в народной сказке, передаваемой из поколения в поколение, аккумулированы моральные принципы и ценности, сформированные на протяжении веков и подтвержденные опытом многих поколений, а также нашли отражение особенности национального уклада, мировоззрение и менталитет русского человека:
«Сказка из похождений слагается, присказками красуется, небылицами минувшими отзывается, за былями буднишними не гоняется; а кто сказку мою слушать собирается, тот пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного не пугается; у меня сказочник в лаптях; по паркетам не шатывался, своды расписные речи затейливой только по сказкам одним и знает» (Сказка о Иване, молодом сержанте: 4–5)1.
Умело соединяя фольклорную и литературную традиции и используя в большинстве произведений первых циклов сказ как особый тип повествования, В. И. Даль вводит в его структуру образ рассказчика (сказочника) — Казака Луганского, имя которого присутствует в полных заголовках рассматриваемых циклов:
«…у меня сказочник — парень незадорный; ест пряники писаные, а говорит речи безграмотные; быль-небылиц старинного веку наслушавшись, мелет не так, как слово к слову пригоняют, на безмен прикидывают, на аршин примеривают — упаси Бог! За эдаким письмом промаявшись, когда-нибудь без покаяния умрешь! — Нет, он мелет спроста, сплеча» (Сказка о Рогволоде и Могучане: 3).
Используя созданный в «Пятке первом» образ рассказчика, Даль уже от его имени пишет анонс издания «Былей и небылиц»:
«…кто мне по плечу, кто рóвня, кто охóч до сказок и присказок русских, как и я грешный, тот берись за книжку мою…»2.
В. В. Виноградов отмечал, что «формы сказа открывают в художественной литературе широкую дорогу причудливым смешениям разных диалектных сфер разговорно-бытовой речи с разными жанрами и видами речи письменной» [Виноградов: 120]. Действительно, одним из основных стилистических приемов Даля в рассматриваемых циклах является сталкивание устных (часто фольклорных) элементов со штампами письмен но-литературн ой речи, как прозаической, так и стихотворной.
В «Сказке о Рогволоде и Могучане царевичах» устно-речевой стихии сказа противопоставлен элемент письменный — образец сентиментального стиля:
«В это мгновение царевича поразило что-то необычайное; пение знакомое райских птиц раздалося, как далекий призывный голос, и заревом прозрачным окруженный лик, душе его знакомый, возрастая от светлой точки до естественной величины и лепоты своей, носился перед ним, как сон мечтательный. Он стоял, утопая душою в созерцании сладостном…» (Сказке о Рогволоде и Могучане: 36–37).
В «Новинке-диковинке» также встречаем интонационный сбой. Здесь он появляется с книжной речью «староверческого монастыря отшельника»:
«А придет скоро время <…> — будет мор, голод, война; будут младенцы сосать груди матерей своих, трупов; будет народ лыки жевать вместо хлеба насущного, пойдут все цари христианские, все земли крещеные войною на неверных, будут воевать Царь-град и Иерусалим, Иерусалим бо есть пуп земли, и возьмут его и заспорят между собою зело, кто своим войском завоевал святую землю и кому надлежит честь и слава, и завраждуют вельми между собою» (Новинка-диковинка: 9–10).
Естественно, что на такое смешение, сталкивание устного и письменного при общей ориентации на устную речь читатель не мог не обратить внимание. Все подобные примеры «механической», искусственной речи выбивались из общего тона повествования, мешали ему, становились лишними. Так выполнялась авторская задача и авторская установка. Даль был одним из тех, кто видел свою задачу в том, чтобы обновить язык и дать новые темы для отечественной литературы. Но главным для него все же являлось «русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя <…> показаться в люди без особого предлога и повода 3 », — слово внутренне убедительное, кладезь народной мудрости.
В других циклах рассматриваемого периода роль рассказчика не столь значительна, как в «Пятке первом» и «Былях и небылицах». Именно рассказчик у Даля связывает воедино разные произведения, обуславливает выбор и трактовку материала, определяет манеру повествования. У В. Т. Нарежно-го, например, рассказчик — это анонимный сказитель русских преданий, у В. Ф. Одоевского — «скромный и боязливый» ученый Ириней Модестович Гомозейка. В ряде циклов встречается разветвленная система повествователей: помещик из деревни, мечтатель и фантазер, просветитель — у Антония Погорельского; мудрый и жизнерадостный пасечник Рудый Панько вместе с дьяком Фомой Григорьевичем и паничем из Конотопа — у Н. В. Гоголя; простодушный Иван Петрович Белкин, записывающий истории, услышанные от разных людей, — у А. С. Пушкина. Включение множества рассказчиков в текст акцентирует определенное стилистическое разнообразие изложения, однако эти образы не проработаны детально, их голоса звучат неясно, а смена рассказчика практически не влияет на жанровые особенности произведения.
Образ рассказчика Казака Луганского, к которому в ряде сказок присоединяются сват Демьян и кума Соломонида, помогает ввести и органично соединить в отдельном произведении и в циклах в целом жанрово-стилевые модификации различных художественных систем. Уже в сказки «Пятка первого» Даль встраивал тексты народной лирической песни («Сказка о Иване молодом сержанте…»), героической песни («Сказка о Рогволоде и Могучане царевичах…»), а второй далевский цикл поражает жанровым разнообразием. В «Былях и небылицах» писатель представил не только тексты отдельных прозаических жанров — повести, литературной сказки, «путешествия», притчи, — но и произведения, относящиеся к разным литературным родам: прозе, лирике, драме. Действительно, в состав «Былей и небылиц» входит пьеса («старая бывальщина в лицах») «Ночь на распутьи, или Утро вечера мудренее». Ряд других произведений цикла представляют собой органичный сплав различных жанровых признаков: «Цыганка» — социально-бытовая этнографическая повесть; «Нападение врасплох» — бытовая повесть-анекдот; «Про жида вороватого, про цыгана бородатого» — бытовая сказка; «О Емеле-дурачке» — сатирическая сказка; «О Георгии Храбром и о волке» — сказка с элементами притчи; «О нужде, о счастии и о правде» — философская сказка; «Илья Муромец» — «богатырская» сказка, представляющая собой «сложное взаимодействие сказки, былины, древнерусской повести и жития» [Захарова: 294]. В других циклах 20–30-х гг. XIX столетия не встречается такого жанрового разнообразия, как в «Былях и небылицах». Как правило, произведения в рамках одного цикла демонстрируют жанровую однородность, что часто подчеркивается в их названиях. В эпоху формирования прозаических жанров русской литературы писатели указанного периода уделяли особое внимание прежде всего повести, для сюжета используя в основном фольклорные источники. Отметим, что в некоторых циклах писатели разрабатывают только одну ее разновидность: В. Т. Нарежный — историческую, М. Н. Загоскин — «страшную» фантастическую. Творчество А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, конечно, выделяется новаторским подходом к жанрам. В их произведениях обнаруживаются замысловатые переплетения различных жанровых форм, что существенно затрудняет однозначную жанровую идентификацию. Однако еще раз подчеркнем, что в своих циклах 1820–1830х гг., работая с жанром, авторы, как правило, не отступали от формата повести.
Использование в «Пятке первом» и «Былях и небылицах» реалистического и сказочного (фольклорного) планов, их смешение из-за употребления различных жанрово-стилевых приемов, противопоставление, переключение с одного плана на другой предопределили два будущих направления творчества Даля: фольклорное (сказки, сборник пословиц, Словарь) и реалистическое (повести, «картины», «досуги», «физиологические» очерки). Но и в реалистическом направлении автор «отождествляет себя лично и свою судьбу с народным мировосприятием» [Фесенко, 1999: 165]. В 1838 г. в письме к В. А. Жуковскому В. И. Даль мельком упоминает о своей творческой лаборатории:
«Но дело вот в чем, рассудите меня с собою сами: <…> надобно знать быт и жизнь народа, мелочные его отношения и обстоятельства, чтобы положить резкие тени и блес<т>ки света; иначе труды Ваши наполовину пропадут; поэму можно назвать башкирскою, кайсацкою, уральскою — но она, конечно, не будет ни то, ни другое, ни третье. <…> Вам нельзя пригонять картины своей по моей рамке, а мне без рамки нельзя писать и своей!»4.
Таким образом, циклы В. И. Даля «Пяток первый» и «Были и небылицы» отражают новаторские поиски современной писателю прозы в области жанра и стиля и в то же время воспроизводят традиционные, знаковые для литературы определенной эпохи и народности жанровые и стилевые формы. В своих первых прозаических циклах Даль стремится представить жанрово-стилевую систему художественной литературы той поры в ее принципиальной целостности. Принцип воплощения народного духа, обнаруженный Далем и заключающийся в объединении фольклорной и литературной традиции, во многом предопределил пути развития русской прозы XIX в.