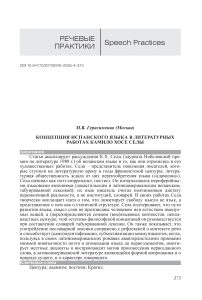Концепция испанского языка в литературных работах Камило Хосе Селы
Автор: М.В. Герасименко
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Речевые практики
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья анализирует рассуждения К.Х. Селы (лауреата Нобелевской премии по литературе 1989 г.) об испанском языке и то, как они отразились в его художественных работах. Села – представитель поколения писателей, которые ступили на литературную арену в годы франкистской цензуры, литературная общественность ждала от них переизобретения языка («адамизма»). Села начинал как поэт-сюрреалист, постист. Он интересовался периферийными языковыми явлениями (докастильским и латиноамериканским испанским, табуированной лексикой): их язык писатель считал подчиненным диктату переменчивой реальности, а не институций, словарей. В своих работах Села творчески воплощает идеи о том, что лимитирует свободу мысли не язык, а представление о нем как о статичной структуре. Села подчеркивает, что пути развития языка, смысл слов не предписаны человеком или естеством именуемых вещей, а (пере)определяются сонмом (вне)языковых контекстов, неподвластных цензуре, этой эстетико-философской концепцией он руководствуется при составлении словарей табуированной лексики. Он также показывает, что употребление несловарной лексики сопряжено с рефлексией о контексте речи и способствует (само)идентификации, субъективизации коммуникантов, когда, пользуясь в своих латиноамериканских романах авангардистскими приемами мнимой иноязычности поэта и атомизации языка до первоэлементов, имитирует местные диалекты и воспроизводит мотив произнесения первозданного слова, в латиноамериканской литературе являющийся формой вопрошания и о природе сущего, и о характере говорящего.
Цензура, адамизм, постизм, Кратил
Короткий адрес: https://sciup.org/149150109
IDR: 149150109 | DOI: 10.54770/20729316-2025-4-373
Текст научной статьи Концепция испанского языка в литературных работах Камило Хосе Селы
РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ
Speech Practices
М.В. Герасименко (Москва)
КОНЦЕПЦИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В ЛИТЕРАТУРНЫХ РАБОТАХ КАМИЛО ХОСЕ СЕЛЫ ннотация
Статья анализирует рассуждения К.Х. Селы (лауреата Нобелевской премии по литературе 1989 г.) об испанском языке и то, как они отразились в его художественных работах. Села – представитель поколения писателей, которые ступили на литературную арену в годы франкистской цензуры; литературная общественность ждала от них переизобретения языка («адамизма»). Села начинал как поэт-сюрреалист, постист. Он интересовался периферийными языковыми явлениями (докастильским и латиноамериканским испанским, табуированной лексикой): их язык писатель считал подчиненным диктату переменчивой реальности, а не институций, словарей. В своих работах Села творчески воплощает идеи о том, что лимитирует свободу мысли не язык, а представление о нем как о статичной структуре. Села подчеркивает, что пути развития языка, смысл слов не предписаны человеком или естеством именуемых вещей, а (пере)определяются сонмом (вне)языковых контекстов, неподвластных цензуре; этой эстетико-философской концепцией он руководствуется при составлении словарей табуированной лексики. Он также показывает, что употребление несловарной лексики сопряжено с рефлексией о контексте речи и способствует (само)идентификации, субъективизации коммуникантов, когда, пользуясь в своих латиноамериканских романах авангардистскими приемами мнимой иноязычности поэта и атомизации языка до первоэлементов, имитирует местные диалекты и воспроизводит мотив произнесения первозданного слова, в латиноамериканской литературе являющийся формой вопрошания и о природе сущего, и о характере говорящего.
ючевые слова
Цензура; адамизм; постизм; Кратил.
M.V. Gerasimenko (Moscow)
THE CONCEPT OF THE SPANISH LANGUAGE IN THE LITERARY WORKS OF C.J. CELA bstract
A
The article examines C.J. Cela’s (Nobel Prize in Literature 1989) views of language and how these were reflected in his art. Writers who started creating and publishing during the first years of Francoist censorship were supposed, by literary community opinion, to ‘reinvent’ language (this trend is known as ‘adanismo’); Cela was one of them. He began as a surrealist and postist, had been interested in a taboo words, Latin American and Precastilian Spanish because interpreted those as enslaved not to dictionaries and government organizations, but to the dictates of a changing (extra)linguistic reality. He argued that consciousness is maked narrow-minded not by language as a structure, but by the idea that language is a structure that affects on consciousness in a unidirectional manner. Trends in language evolution, meanings of words are not prescribed in advance by human will or by the nature of named things, but are (re)defined by many factors. This throughts is the basic methodological idea of compiling Cela’s dictionaries of taboo vocabulary. The use of un-diccionaried word is associated with communicants' reflection about the context of speech and contributes to their (self)identification, subjectivization. In Latin American novels, Cela employs avant-gardist’s techniques pseudo-foreign language of the poet, atomizing language to its basic elements. In this way, Cela imitates Latin American dialects and reproduces the literary motif of the first word ever uttered by human (Adam): in Latin American literature, this motif signifies a question about the nature of existence and the character of the speaker.
ey words
Censorship; adanismo; postism; Cratylus.
Начало диктатуры Франко – время, когда в испанских литературных кругах крепло представление о кризисе национальной литературы из-за цензуры (культурной автаркии, разрыва с традицией) и идеологизации критики, а также о том, что новому поколению писателей предстоит создать новый язык, заново наречь сущее (их деятельность называли «адамизмом» [Fernández 2010, 88]). Реноме автора, возродившего испанскую литературу, критикой присвоено К.Х. Селе (1916–2002): лауреату Нобелевской премии по литературе (1989), члену Испанской королевской Академии языка (1957), скандально известному работой цензором в Министерстве Прессы и пропаганды (1941–1945) [Puértolas 2008, 743–744].
Именитый романист Села отмечал отсутствие единого «стиля» (типа героя и пр.) в своих романах, имитировавших самые разные жанровые формы и техники, жанр романа считал по определению протеистичным: «Роман может принадлежать к любой школе. Даже к той, какой еще нет. Он – все, что <…> допускает слово “роман” под заглавием» [Cela 1962, 972]. Эстетическое своеобразие прославившего Селу дебютного романа («Семья Паскуаля Дуарте», 1942) открывается в череде имитаций разных дискурсов и форм: трудность его соотнесения с известными течениями побуждала критиков спорить о его идейно-философской, жанровой природе (близости к реализму, экзистенциализму, (нео)натурализму, пикареске), видеть в нем зачатки нового литературного течения. Возрождение дискуссии, обнажавшей неразрывность связи явлений до- и послевоенного времени, испанской и зарубежной литератур, стало ответом на запрос времени [Герасименко 2024, 18].
Корень «новаторства», экспериментальной природы творчества Селы, – интерес к процессу генерирования смыслов, его возможностям и ограничениям, отчетливо заметный в его лингвофилософских высказываниях: они созвучны и экспериментам стремившихся преодолеть пределы языка авангардистов, и настроениям времени, когда металингвистические практики контроля отношения граждан к языку были фактом внеязыковой реальности, и концепциям конца 1950-х гг., характерным поворотом от структуралистской парадигмы к генеративистской на фоне уменьшения доверия к бихевиоризму и представлению о языке как об опережающей (детерминирующей) реальность системе.
Начинал Села как поэт. Первый сборник стихов («По смутным тропам меркнущего дня» ( Рisando la dudosa luz del día , 1936)) Села написал за шесть лет до первого романа; по своему признанию, под влиянием сюрреалистов; оно ощутимо на стилистическом, лексическом, образно-тематическом уровнях [Sellés 1990, 133–154.]. Села был вхож в круг поэтов-постистов ( postis-mo : «после ‘-изм’» – течение позднего авангардизма в Испании 1945–1950 гг. [Fernández Molina 2002, 6]). Влияние постизма отмечают в его романе «Миссис Колдуэлл говорит с сыном» ( Mrs. Caldwell habla con su hijo , 1953), его стихи включены в «Антологию испанского сюрреализма» ( Antología del surrealismo español , 1952) и «Антологию постизма» ( Antología de poesía postista , 1996) [Carilla 1994, 44]. Работы постистов эксплуатировали приемы автоматизма, ассоциации, игры со словом, синтаксисом, письма на выдуманных языках [Харитонова 2023, 41–43].
Игра со словом – основа постизма: «Слово – горючее. Ценность его не сводится к значению, хладнокровно предписываемому Словарем, но придается местом в фразе. А какая невиданная мощь слова откроется, стоит нам обратиться к его корням!» [Palacios 2004, 327]. Но постисты слово считали и ресурсом для воплощения творческой воли, и ограничивающим ее непознаваемым «божеством»: «<слово есть> проявление человеческого существа более великое, чем сама мысль», «<никто> не докажет, что мысль предшествовала речи: практика и обогащение речи развивают интеллект» [Ruíz Moltó 2009, 163–164].
Села, отчасти вторя им, был менее радикален. В слове он видел не высшее непостижимое проявление человеческого «я», а призыв к сотворчеству: «Вопреки расхожему мнению, “знать наизусть” язык невозможно; чтобы поддерживать, обогащать, да хотя бы оживлять его, нужно постоянно быть на высоте» [Cela 1978, 94]. Он отмечал, что изыски сюрреалистов, бывшие провокацией, уже абсорбированы обществом потребления [Cela 1990, 446]. На потуги авангардистов попрать границы языка писатель оглядывался с позиции «сына», для кого «отец» и учитель, и соперник, свойственной приверженцам ретроспективных тенденций в искусстве [Зусева-Озкан 2019, 38–39]. Он обращался к эпохе становления романских языков, когда идея о единой «норме» языка воспринималась неоднозначно; эпиграфом к тому «Секретного словаря» Села делает цитату, где Л. де Леон высмеивает фанатов латыни, лишавших себя блага читать на romance : «…мало чем обязанных своему языку, раз он вынудил их ненавидеть то, что, будь оно сказано иными словами, пошло бы им на пользу» [Cela 1974]. По мысли Селы, обедняют мышление не шаблоны, в которые загоняет его язык, а идея о языке как самоценной системе.
В словарях табуированной лексики отразилась ирония Селы к противоречивому представлению о том, что язык, с одной стороны, сковывает свободу сознания носителя, но с другой, если носитель ухитрится-таки ограничить его «нормой» (цензурной, академической и т. п.), – грозит исказить действительность, познание которой сулил. Принцип, которым Села руководствовался при составлении словарей, подобен таковому у сюрреалистов: дабы изменить общепринятый образ мысли, они материал своих энциклопедий излагали сообразно эстетико-философской идее [Гальцова 2019, 36].
Обращаясь в предисловии к «Секретному словарю» ( Diccionario secreto , 2 т., 1968–1971) эвфемизмов, жаргона и пр. к диалогу Платона «Кратил», Села заключает, будто позиции Гермогена («слова – лишь условности, установленные людьми для достижения взаимопонимания», а «“смысл” вещи не родник, но колодец») мыслитель предпочел идею Кратила («смысл рождается из зародыша вещи»). И спорит, заявляя: начало «бед в сфере языка» – идея, что «вещи названы по их естеству, а не так, как люди их называют, сообразуясь с текущими условиями» [Cela 1968, 10–12]. Упоминает прецеденты, когда нейтральные по значению слова, чьи морфемы омонимичны табуированным названиям половых органов, выходили из оборота [Cela 1968, 18–20]: побуждающая искать «соответствий» имен объектам буквализация кратиловского подхода – триггер сюрреалистичных ассоциаций, нелепых ограничений и подгонки языка не под «суть вещи», а под структуру его же элементов.
Фактором обретения словом смысла Села называл внеязыковые процессы.
Его интерес к тем словам, какие широко употребимы в том числе в несловарных своих значениях, резонировал с их свойством быть инструментом (само)идентификации коммуникантов, отношения к контексту [McIntosh 2020, 2]. Выбор названия для «Секретного словаря» он объяснял тем, что слово «секрет» употреблено в значении, какое обретает на вывеске врача, избавляющего от «стыдных» («secreto») болезней: «секрет» не секрет, коль некто задержался у вывески с надписью «секрет» [Cela 1968, 25]. В предисловии к «Энциклопедии эротизма» ( Enciclopedia de erotismo , 1977) Села отмечал: граница меж допустимой (эротической) и ненормативной (порнографической) лексикой «неопределенна, зыбка, условна», идентификация ее невозможна без учета обстановки коммуникации [Cela 1982, 19] .
« Гермогеновский» язык (произвольно учреждаемая узкоспециальная лексика и др.) – часть «кратиловского» (естественного языка: итога исторического, психологического пути); развитие языка диктуется не сутью вещей, не человеческой волей, но «обычаем», «коллективным бессознательным инстинктом», в чью работу человек вмешивается лишь по инерции [Cela 1968, 11–18]. Значит, и мысль о всесилии цензуры – заблуждение из-за «неразделения “процедуры” и “закона”, и возможность эвфемизации – иллюзия («и индивидуальная речь, и коллективная обычно отвергает абсолютную синонимию, стремится к ее устранению» [Cela 1968, 17, 27]). Страх цензуры «умы увечит едва не больше, чем литературу»: борясь с цензором, писатель «увлекается игрой вместо того, чтобы игнорировать <ее правила>», – хотя победил бы, не пользуйся он оружием, навязанным цензором [Cela 1962, 13–15].
Идее о природе языка, не дающей ни сделать его средством ограничения творческой воли, ни индивидуальной воле ограничить его, удовлетворяли периферийные языковые явления, обнажающие его функциональность и пластичность, а не статичное устройство, и подчинение диктату не институций, а переменчивой реальности. Латиноамериканский испанский – модель для творческих экспериментов, исследующих свойства, возможности языка в его
«нестабильном» варианте: «Словари, изданные в Аргентине, – свидетельство: правила, очевидные нам и строго определенные Королевской академией испанского языка, в Рио-де-ла-Плата текучи, что воды морские» [Cela 1978, 316].
Новый свет в романах Селы – пространство вне единой нормы языка. В романе «Христос VS Аризона» ( Cristo versus Arizona , 1988), эксплуатирующем форму колониальной хроники, запечатлена «эрозия» кастильского, в Аризоне 1880–1920-х гг. заглушаемого эхом американского английского, языками иноземцев и коренных жителей. Написание фамилии героя меняется (Espana, Span, Aspen), как менялось написание фамилии Б. де лас Касаса (Casas, Casaus), прибывшего в Новый свет спустя всего десять лет после его открытия и составления первой «Грамматики кастильского языка» (1492) [Dubreuil 2007, 274 –275, 286–287].
Имитация «латиноамериканского испанского» – элемент художественной техники романа «La Catira» (венес.: светловолосая дочь европейца и мулатки [El diccionario]), 1955), написанного по заказу венесуэльского диктатора М. Переса Хименеса. Опубликовав в Латинской Америке роман «Улей» (1951), запрещенный в Испании, Села стал известен там как инакомыслящий; по плану Франко, культурно-дипломатический заграничный тур «неугодного» автора, где он делился бы «патриотическим» видением происходящего в Испании, мог помочь легитимизации режима в глазах международного сообщества. Перес-Хименес, имевший, как Франко после Второй мировой войны, проблемы с презентации режима на международной арене, задумал получить «роман об истории Венесуэлы» от европейского автора [Burgos 2009].
Формально «La Catira» удовлетворила заказу. Очевидны переклички с романом «Донья Барбара» ( Doña Bárbara , 1929) Р. Гальегоса (оппонента Переса-Хименеса), ответившим на потребность венесуэльской литературы в освоении национального характера и образа мира, в создании национального эпоса, героя, мифологии [Гирин 2004, 75]. Героиня «La Catira» – метиска Пипия, женщина-касик, терзаемая порывами к свободе и к отказу от нее, в результате череды смертей притязавших на нее мужчин остающаяся богатой вдовой. Донья Барбара – тоже женщина-касик, мстящая мужчинам за посягательства на себя, символ венесуэльской «сущности» со свойственным ей «комплексом жертвенности и насилия». Но она проигрывает «рыцарю-просветителю», адепту прогрессистских концепций: уведя ее дочь, возведя ограду вокруг своих владений, он внедряет понятие меры в жизнь не знающих границ льяносов [Гирин 2004, 79]. А Пипия после смерти сына-наследника отказывается продать земли: финал романа отрицает возможность вписанной в социальный порядок «объективации» земли, символизирует новый этап истории Венесуэлы.
Пикантность написания испанцем романа, который бы «инкорпорировал американскую реальность, ее своеобразный язык в испанскую литературу» [Cela 1969 , 956–957], – в том, что пестование духовно-языкового единства испаноязычных территорий являлось элементом имперской идеологии Франко [Филатов 2014, 62, 67], бывшей примером угрозы, какую для языка несут внеязыковые факторы, и в Испании проявлявшейся в элиминации некастильского испанского [Llorca 2019, 84].
Села сопроводил «La Catira» «Словарем венесуэлизмов»; в предисловии предупредил: роман трудно читать [Cela 1969, 956–957]. Он смешал диалекты, нестандартно транскрибировал просторечия [Hernando Cuadrado 2008, 125–141], что возмутило читателей; венесуэльцы не желали видеть испещ- ренный вульгаризмами язык прообразом национального. Сделка сорвалась [Burgos 2009].
Мнимая иноязычность поэта, атомизация языка до первоэлементов – авангардистские приемы демонстрации адамической наивности, «вещего неведения о нормах создания культурного текста» [Гирин 2015, 220–222]. Мотив произнесения «первозданного слова» в латиноамериканской литературе – выражение веры в потенции зарождающейся культуры, род вопрошания о природе сущего и собственной натуре говорящего [Кофман 1997, 218–219]. Села, чье творчество пришлось на те годы, когда «недостаточность» языка и неизбежная ложность изреченного казались не положением авангардистского манифеста, а приметой эпохи франкистской цензуры, жаждал обнаружить «доидеологи-ческие», суггестивные основания созидающего историю сознания («Культура, традиция – не идеологичны, а инстинктивны. Чтобы творить историю, нужно не иметь идей» [Cela 1969, 960]).
Объект внимания и творчества Селы – высказывания, связанные с выражением замешательства, неверия (неуловимых с помощью слов, обозначающих объекты [Рассел 2004, 542]). Села показывает, что язык не ограничен номинацией вещей, констатацией, однонаправленной связью с реальностью; избегая интерпретации языка как подлежащей инвентаризации структуры, писатель делает акцент на бесконечности вариантов творческого использования его ограниченных средств, субъектности его носителя.