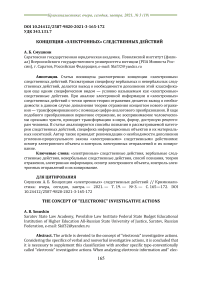Концепция "электронных" следственных действий
Автор: Смушкин А.Б.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 3 (19), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению концепции «электронных» следственных действий. Рассматривая специфику вербальных и невербальных следственных действий, делается вывод о необходимости дополнения этой классификации еще одним специфическим видом - условно называемым как «электронные» следственные действия. При анализе электронной информации и «электронных» следственных действий с точки зрения теории отражения делается вывод о необходимости в данном случае дополнения теории отражения концептом нового отражения - трансформированного с помощью цифро-аналогового преобразования. В ходе подобного преобразования первичное отражение, не воспринимаемое человеческими органами чувств, проходит трансформацию в иную, форму, доступную рецепторам человека. В статье анализируются способы познания в рассматриваемой категории следственных действий, специфика информационных объектов и их материальных носителей. Автор также приводит рекомендации о необходимости дополнения уголовно-процессуального закона «электронными» следственными действиями: осмотр электронного объекта и контроль электронных отправлений и их копирование.
«электронные» следственные действия, вербальные следственные действия, невербальные следственные действия, способ познания, теория отражения, электронная информация, осмотр электронного объекта, контроль электронных отправлений и их копирование
Короткий адрес: https://sciup.org/143178219
IDR: 143178219 | УДК: 343.131.7 | DOI: 10.24412/2587-9820-2021-3-165-172
Текст научной статьи Концепция "электронных" следственных действий
Рассматривая классификацию следственных действий, традиционно авторы выделяли по методам отображения фактических данных, основанные на методе расспроса вербальные следственные действия, использующие метод наблюдения невербальные, а также смешанные следственные действия, включающие элементы обоих основных методов [1, с. 21; 2, с. 33—34; 3, с.190; 4, с. 5].
Иные авторы в основу подобной классификации ставили «взаимсвязь следственного действия с обнаружением материальных следов и вещественных доказательств, а также с получением и проверкой показаний с помощью этого следственного действия» [5, с. 35].
Н. С. Полевой, придает термину «вербальный» только узкое значение как лишь «словесный способ передачи данных [6, с. 46—47]», следовательно, по меткой оценке С. Б. Россинского, к невербальной информации по данному критерию Н. С. Полевой должен относить: перфозапись, буквенно-знаковую, цифровую, графическую, иконическую, магнитную и иную запись [7, с. 23]. С. Б. Россинский основывает дифференцацию следственных действий на способе познания. Он рассматривает «невербальный» характер следственных действий максимально широко, «распространив его на все варианты установления обстоятельств уголовного дела, сопряженные с формированием в сознании дознавателя, следователя, судьи мысленных образов материальных объектов, основанных на чувственном (наглядно образном) перцепте и подразумевающих оперирование зрительными и любыми другими сведениями, не выраженными в вербальной (условно-сигнальной) форме» [7, с. 23]. Именно «зрительный гнозис дознавателя, следователя и особенно судьи является практически единственным способом получения сведений от материальных объектов познания» [8, с. 137].
Специфика познания в криминалистике проявляется в том, что оно осуществляется на основе двойного отражения. Так, как указывает А. А. Давлетов, «первое отражение, возникающее в момент совершения преступления на окружа- ющих объектах и вещах, носит объективный характер. Второе отражение, возникающее в сознании субъектов процесса познания (доказывания), является субъективным» [9, с. 28].
Не вдаваясь в данную дискуссию, отметим, что в последнее время, в условиях цифровизации всех сфер человеческой жизни, необходимо поднять вопрос о новом типе следственных действий, которые условно можно назвать «электронными» действиях, обладающих существенной спецификой, позволяющей констатировать необходимость выделения их в отдельную классификационную подгруппу. Под такими следственными действиями мы понимаем действия, направленные на работу с электронной цифровой информацией, вне зависимости от связи с её носителями.
«Электронные» следственные действия имеют существенное отличие от вербальных и невербальных следственных действий. Гносеологически, при вербальных следственных действиях сначала происходит отражение события в материальной обстановке, затем в сознании воспринимающего субъекта (подвергаясь переработке), а лишь зачем в сознании следователя и далее в протоколе. Как указал Х. А. Сабиров, «суд при исследовании протокола допроса имеет дело со сведениями, которые трансформируются дважды — через сознание допрашиваемого и сознание следователя» [10, с. 21]. При этом ошибки восприятия и передачи возможны на любом этапе, накапливаясь пропорционально количеству этапов. Н. И. Порубов справедливо указывал, что информация, поступающая к человеку из внешнего мира, отличается от той, которую он передает другому [11, с. 8—9].
При невербальных следственных действиях непосредственное восприятие изменения материальной обстановки (первичного отражения) приводит только к двойному отражению — отображению в сознании следователя воспринятого изменения в материальной обстановке. «Дознаватель, следователь или судья зрительно (в исключительных случаях — посредством иных органов чувств) воспринимают определенные фрагменты объективной действительности, элементы вещной обстановки, сведения о которых, поступая в кору головного мозга, образуют соответствующий образный перцепт. Далее на основании этого перцепта посредством зрительного (в исключительных случаях — иного) представления в их сознании формируются мысленные образы воспринятых материальных объектов познания. И лишь затем субъект познания посредством своего рационального мышления создает словесное (вербальное) описание сформированного мысленного образа, которое заносится в протокол следственного действия или судебного заседания, где, в отличие от вербальных способов познания, отражается уже не перцепт, а словесная форма выражения мысленных образов, созданных в сознании дознавателя, следователя или судьи» [8, с. 137]. У вербальных и невербальных способов познания, как оснований дифференциации следственных действий на одноименные группы, отличаются и механизм восприятия, и сама характеристика поступающей информации и особенности её осмысления.
Представляется, что цифровой объект познания «электронных» следственных действий накладывает существенную специфику.
Объективное, первичное отражение события происходит не во внешнем виде элементов вещной обстановки, а в киберпространстве, т. е. в инцидентном пространстве электронных устройств, а также информации, передаваемой любым спо- собом между ними. Кибернетическое пространство представляет собой обобщенное наименование упорядоченной в соответствии с определенными протоколами автоматизированной обработки информации системы программных средств и документальных файлов, расположенных в памяти электронных цифровых устройств или электронной цифровой информации, находящейся в процессе передачи любым доступным способом, либо информации, распределенной в компьютерной системе или сети.
Первичное отображение события в киберпространстве невозможно для восприятия человеком. В человеческом организме просто отсутствуют необходимые рецепторы для распознавания или, хотя бы, выявления самого наличия информации, записанной с использованием движения электронов. Первичное отображение находится в цифровой форме и должно быть трансформировано в «человекочитаемый» вид. Трансформация производится с помощью цифро-аналогового преобразования. Можно отметить, что отражение в материальной обстановке для восприятия следователем подвергается только преобразованию, связанному с усилением, акцентированием и т. д., но форма выражения при этом не меняется. Речь не идет о переводе материального отображения в идеальное. Данный вопрос достаточно подробно рассмотрен психологами. Автор же имеет в виду перевод отображения в «человекочитаемый» вид. С помощью измерения лишь дополняются визуальные, акустические и иные, воспринимаемые органами чувств данные. Другое дело цифро-аналоговое преобразование. Оно носит кардинальный характер. Можно сказать, что такая трансформация приводит к появлению дополнительного отражения. Аналогия подобному преображению отсутствует и в вещной и в идеальной среде. В ходе подобного преобразования первичное отражение, не воспринимаемое a priori человеческими органами чувств, проходит трансформацию в иную форму. Представляется, что в данном случае схема познания информация дополняется еще одним отражением, имеющем свои характеристики. Данное отражение по содержанию, в отличие от материального, основано на иных закономерностях. В материальном отражении происходит зеркальное отображение контактирующих объектов. В идеальном реализуется специфика процессов восприятия— запоминания — воспроизведения. В рассматриваемом же случае реализуются закономерности программного кода, как языка, разработанного специалистами, преобразования электронной информации, а также закономерности визуального выражения информации после цифро-аналогового преобразования.
Изменения материальной обстановки при первичном отражении события в узком смысле этого слова не происходит, а происходит изменение программного кода. Для восприятия данного отображения необходимы специальные программные или аппаратно-программные комплексы, например, UFED.
Отображение в программном коде подвергается программной обработке и цифро-аналоговому преобразованию для восприятия следователем. Объект познания при электронных следственных действиях — расположенная в киберпространстве электронная информация, информационные объекты. Данная информация может быть как изъята вместе с материальным носителем, так и достаточно быстро скопирована с него. Копирование информации с электронного носителя размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, любой иной сети или даже устройстве, просто подключенном к сети может быть осуществлено дистанционно даже без ведома владельца устройства.
Носители информации, являющейся объектом познания «электронных» следственных действий — специфические предметы материального мира, содержащие записи электронной цифровой информации с помощью электромагнитных, оптических или, в некоторых случаях, даже механических методов, а также сама информация, находящаяся на них, пригодная для автоматической обработки и передаваемая любым способом.
Цифро-аналоговое преобразование не подвержено влиянию субъективных факторов, но зачастую результат такого восприятия без соответствующей аналитики будет иметь крайне ограниченный эффект (обнаружение конкретного файла с информацией экстремистского характера детской порнографией, текстовых списков и т. д.), и это при условии, что для маскировки данных файлов не были использованы простейшие функция сокрытия файла, не говоря уже о стеганографии. В этом и состоит роль специальных программных комплексов и специалистов— поиск сокрытых объектов и оперативная аналитика получаемой информации для выявления взаимосвязей и взаимозависимостей, например, сетки контактов (визуальное выражение списка контактов с анализом частоты соединений). Следовательно, специалист и программно-аппаратный комплекс расширяют поле восприятия следователем и глубину передаваемого отображения информации. Можно сказать, что в данном случае расширяется гнозис следователя, позволяя глубже вникнуть в суть произошедшего события во взаимосвязи с объектами, субъектами и иными событиями.
В рамках данных действий информация передаётся не знаками определённого алфавита, а в электронно-цифровой форме программным кодом. Одинаково значение имеют и форма источника информации, и форма самой информации, и её содержание. В ходе данных следственных действий обязательному изучению подвергается как содержательная информация, так и служебная — программы.
В качестве основного метода используются не наблюдение или опрос, а кибернетические методы. Данные следственные действия имеют существенную специфику.
«Электронные» следственные действия могут производиться как при прямом контакте с изучаемым объектом, так и дистанционно. Дистанционно может получаться информация, размещенная в компьютерной сети (глобальной — Интернет, или имеющей выход в глобальную сеть), распределенного в ней или размещенного на устройстве, подключенном к сети.
Они требуют обязательного участия специалиста, обладающего специальными знаниями в области компьютерной техники и сетевых технологий.
Электронная цифровая информация, получаемая в ходе рассматриваемых действий, может реализовываться как в вербальном (тексты, исходники программ и т. д.), так и в наглядно-образном перцепте (видеозаписи, внешнее отражение работы программ и т. д.). Результатом «электронных» следственных действий, кроме протоколов следственных действий, будут являться электронные доказательства. Следует солидаризироваться с мнением авторов, призывающих выделить электронные доказательства в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федера- ции (далее — УПК РФ) в качестве самостоятельного вида доказательств [11, с. 30]. Основной спецификой таких доказательств будет равноважное значение и формы и содержания информации, а в некоторых случаях также материальные следы на её материальном носителе. Контролепригодность таких доказательств вполне будет обеспечиваться криптостойкой хеш-функцией.
К числу «электронных следственных действий» можно было бы отнести и «Осмотр электронного объекта» и «Контроль электронных отправлений и их копирование». И если первое действие требует лишь дополнение видом осмотра, имеющим электронную спецификацию, то второе будет нести самостоятельное значение и, как уже отмечалось, потребует отдельной регламентации в УПК РФ [12, с. 76—81].
В рамках осмотра электронного объекта полагаем допустимым следующих подвидов, имеющих специфический объект исследования: осмотр локального устройства (компьютерного или коммуникационного), сетевой осмотр (в рамках которого должен производиться как осмотр структуры сетевого ресурса, так и конкретно осмотр информационного объекта), осмотр распределенного объекта.
-
А. С. Александров предлагает такое следственное действие, «получение цифровой информации (машинным способом)», объединяющее все варианты получения рассматриваемой информации и возможное к производству любым программистом, специалистом по информационной безопасности корпорации (профессиональным «антихакером»), «роботом» и «ботом» — «интеллектуальными агентами» [13, с. 133].
Представляется, что при работе с электронной информацией необходимо разграничивать получение информации, уже имеющейся на электронных носителях и извлечение информации в режиме реального времени (или приближенном к нему режиме) в ходе коммуникационного контакта фигуранта. Предлагаемое А. С. Александровым следственное действие не сможет охватить оба рассматриваемых варианта.
Кроме того, вряд ли возможно запрограммировать учет всех субъективных элементов, а также специфику оценки доказательств. В данном случае будет нарушаться классическая криминалистическая закономерность следственной деятельности, связанная с необходимостью сочетания типичности и атипичности. Преступления, даже в цифровой сфере, совершаются людьми, что не может не вносить субъективный, энтропийный элемент в любую упорядоченную картину. Понимание преступниками сути программы и основ её функционирования, в случае утечки информации, позволит её обойти. Программисты же и антихакеры, поскольку незнакомы со следственной деятельностью, могут быть лишь помощниками следователя, специалистами в ходе следственных действий или лицами, предоставляющими следователю самостоятельно полученную информацию, но оценивать, определять пригодность для использования с точки зрения относимости, допустимости и достоверности на досудебном производстве может лишь персонифицированный и уполномоченный государством профессионал.
-
А. С. Александров также предлагает новый концепт допустимости доказательств, получаемых с помощью «электронного» следственного действия — «способность субъекта доказывания подтвердить в суде аутентичность представляемой
информации информационным следам преступления. По требованию процессуального противника субъектом доказывания должна быть предъявлена не вызывающая разумных сомнений цепь законных владений цифровой информацией» [13, с. 133]. При этом, сама цепь законных владений будет означать «порядок процессуального документирования цифровой (электронной) информации, имеющей доказательственное значение, который обеспечивает сохранность информации при передаче её на всех этапах доказывания от момента получения до передачи её вплоть до судебного органа, рассматривающего дело по существу или по отдельному спорному вопросу» [14, с. 28, 45]. Не вдаваясь в дискуссию относительно всей доктринальной модели профессора А. С. Александрова, отметим лишь, что идея подтверждения в суде аутентичности предоставляемой информации только по требованию процессуального противника нам представляется слишком либеральной даже на фоне либеральной модели уголовного правосудия в США. О законности изъятия информации или её носителя при этом даже не поднимается вопрос. В самих США некоторые ученые отмечают, что даже «самые убедительные цифровые доказательства никогда не могут быть частью судебного дела, если устройство было изъято в ходе обыска незаконно» [15, с. 18].
При этом автор статьи не является сторонником кардинальной ломки системы уголовного судопроизводства и полной автоматизации предварительного расследования и (или) судебного следствия, как отдельные авторы [16, с. 9—18], а, скорее, предлагает модернизацию действующей системы следственных действий с учетом глобальной цифровизации информации в современном мире.
Таким образом, представляется необходимым встраивание в действующую систему уголовного судопроизводства следственных действий «Осмотр электронного объекта» и «Контроль электронных отправлений и их копирование», как имеющих специфический способ познания, гнозис и объект исследования. С точки зрения криминалистической теории отражения, в случае производства данных действий встает вопрос об еще одном, промежуточном отражении между непосре-ственным отражением преступления в обстановке и его отображением в сознании следователя. Причем это отражение возникает вследствие цифро-аналогового преобразования первичного.
Список литературы Концепция "электронных" следственных действий
- Быховский И. Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. — Волгоград: Высш. следств. школа, 1977. — 95 с.
- Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма: мо-ногр. — М.: Юрид. лит., 1981. — 127 с.
- Головин А. Ю. Криминалистическая систематика / под ред. Н. П. Яблокова. — М.: ЛексЭст, 2002. — 335 с.
- Смирнов А. В. Следственные действия в российском уголовном процессе: учеб, пособ. для студ. / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. — Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2004. — 73 с.
- Соловьев А. Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России: науч.-практ. пособ. для следователей. — М.: Юрлитинформ, 2002. — 155 с.
- Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика: учеб. пособ. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 208 с.
- Российский С. Б. Особенности «невербального» способа познания в доказывании по уголовному делу // Baikal Research Journal. — 2015. — Т. 9. — № 1. — С. 23.
- Воскобитова Л. А. Вопросы познания в современном уголовном судопроизводстве / Л. А. Воскобитова, С. Б. Россинский // Всероссийский криминологический журнал. — 2015. — Т. 9. — № 1. — С. 130—143.
- Давлетов А. А. Основы уголовно-процессуального познания. — Екатеринбург: Гуманит. ун-т, 1997. — 152 с.
- Сабиров Х. А. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств в российском уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. — Краснодар: Кубан. гос. аграр. ун-т, 2000. — 24 с.
- Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном процессе. — Минск: Вышэйш. шк., 1968. — 367 с.
- Зигура Н. А. Компьютерная информация как вид доказательства в уголовном процессе России: моногр. / Н. А. Зигура, А. В. Кудрявцева. — М.: Юрлитинформ, 2011. — 173 с.
- Смушкин А. Б. К вопросу об электронных следственных действиях // Законодательство. — 2019. — № 11. — С. 76—81.
- Александров А. С. Проблемы теории уголовно-процессуального доказывания, которые надо решать в связи с переходом в эпоху цифровых технологий // Судебная власть и уголовный процесс. — 2018. — № 2. — С. 130—139.
- Александров А. С. Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права РФ и комментарии к ней. — М.: Юрлитинформ, 2015. — 304 с.
- Goodison S. E. Digital Evidence and the U.S. Criminal Justice System: Identifying Technology and Other Needs to More Effectively Ac-quire and Utilize Digital Evidence / S.E. Goodison, R.C. Davis, B.A. Jack-son. — Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2015. — 32 p.
- Власова С. В. К вопросу о приспосабливании уголовно-процессуального механизма к цифровой реальности // Библиотека криминалиста. — 2018. — № 1. — С. 9—18.