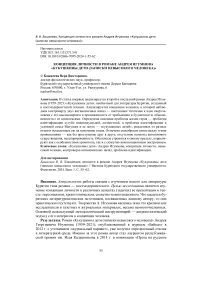Концепция личности в романе Андрея Игумнова «Кукушкины дети (записки невысокого человека)»
Автор: Башкеева В.В.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые анализируется второй и последний роман Андрея Игумнова (1959-2021) «Кукушкины дети», необычный для литературы Бурятии, созданный в постмодернистской технике. Анализируется концепция человека, в которой наблюдаем контроверзу двух антиномичных начал - постоянное тяготение к идее сверхчеловека с его высокомерием и приниженность от пребывания в будничности, обыкновенности с ее комплексами. Определена основная проблема жизни героя - проблема идентификации сугубо индивидуальной, личностной, и проблема идентификации в условной семье Матушки и ее деток - «кукушкиных детей», рожденных от разных отцов и оставленных ею на попечение отцов. Отмечено своеобразие связи между этими проявлениями - как бы проступание друг в друге, отсутствие полноты автономного существования, несепарированность. Оба начала стремятся к своему пределу, коррелируют как с особенностями хронотопа, так и с сюжетно-композиционным построением
«кукушкины дети» андрея игумнова, концепция личности, невысокий человек, контроверза антиномичных начал, проблема идентификации
Короткий адрес: https://sciup.org/148328409
IDR: 148328409 | УДК: 821.161.1.0 | DOI: 10.18101/2686-7095-2024-1-55-62
Текст научной статьи Концепция личности в романе Андрея Игумнова «Кукушкины дети (записки невысокого человека)»
Введение. Актуальность работы связана с изучением нового для литературы Бурятии типа романа — постмодернистского. Целью исследования является изучение концепции личности в различных аспектах (задачах) ее презентации в тексте: персонажном, хронотопическом, сюжетно-композиционном. Что касается бурятских литературоведческих источников, посвященных данному автору, то они практически отсутствуют. Творчества А. Игумнова касались пока что критики или исследователи в газетных и журнальных материалах, весьма немногочисленных. Основной используемый методологический инструментарий — антропологический подход с его интересом к концепции человека.
Результаты. Роман «Кукушкины дети (записки невысокого человека)» Андрея Георгиевича Игумнова (1959–2021), опубликованный в журнале «Байкал» в 2012 г. с уточнением «журнальный вариант», уже получил определенный отклик в литературной среде. Именно за этот роман автор стал лауреатом республиканской премии им. Исая Калашникова в 2014 г. в номинации «Проза на русском языке». Литературным же романным дебютом Андрея Игумнова, автора рассказов, романов, драматургических опусов [1], стал роман «Пузыри жизни» (2008), написанный, очевидно, в 1990-е гг.1 Роман выдвигался на премию «НОС» в 2009 г., в 2020 г. вошел в лонг-лист в номинации «Длинная проза» общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева2. Отдельное издание первого романа вышло в 2019 г. [3].
А. Г. Игумнов пришел в литературу из фольклористики. Всю сознательную жизнь он проработал в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии БНЦ СО РАН, в последние годы в должности старшего научного сотрудника отдела литературоведения и фольклористики. Много лет по совместительству работал на филологическом факультете Бурятского государственного университета, который в свое время еще в статусе педагогического института и окончил. В 2012 г. защитил в ИМБиТ докторскую диссертацию на тему «Поэтика конкретности историзма в русском историко-песенном фольклоре», далекую от проблематики постмодернизма. Представляет тип современного беллетриста, пришедшего от научных работ к художественному творчеству.
Возникает искушение, если исходить из фактов биографии А. Игумнова, назвать роман «Кукушкины дети» филологическим романом, с его избытком специальной информации, культурными аллюзиями в достаточных количествах, цитированиями великих и др. Герой проявляет особую чуткость к словам, к их звучанию, знает о лингвисте Ф. де Соссюре, словесно изобретателен и точен. Особенно важно то, что в романе намечен «конфликт во внутреннем мире рефлексирующей личности, будь то автор или герой» [7], чему и будет посвящена данная статья. Более того, очевидна не просто наличествующая внутриличностная конфликтная ситуация, но невместимость такого конфликта в рамки героя-человека. И даже рамки понятия «образ героя», отличного от образа автора, разрываются на части от попытки «вместить» в него личностный конфликт. К тому же нечастот-ность обращения к филологической проблематике, технарская профессия героя, отсутствие «главной отличительной особенности филологического романа» («такое воплощение филологических идей в структуре романа, такое включение литературной или языковой теории в литературную практику, которое ведет к художественным открытиям» [7]) требуют специального изучения в аспекте жанровых поисков.
В 2010 г., по информации газеты «Новая Бурятия», редактор журнала «Байкал» Булат Аюшеев, говоря о двух неопубликованных романах А. Игумнова, высоко оценил его как писателя: «Игумнов, пожалуй, самый интересный романист в республике. Однако многих читателей отпугнула непривычная литературная техника, а пуще того — исследовательский холод»3. Не менее высоко оценила романную прозу А. Игумнова в газетной публикации С. Имихелова, посчитав, что он «еще один эпический писатель, продолжающий традицию» русского бурятского романа» [6].
Одним из ключей к постижению данного постмодернистского текста становится образ повествователя, сближенного с автором в силу выбранного жанра полудневника — полухроники-полумифа, сопровожденного комментариями информационного и условного характера. Уже начало романа позволяет увидеть замах библейского масштаба, когда персонаж с обычным именем Роман Петрович Пу-зырев (самоименование Ромул Патрикович), намекающим, кстати, на название первого романа А. Игумнова «Пузыри жизни», соотносит себя с евангелистом Лукой.
Есть и принципиально иной ракурс, когда «потревоженный червяк», вылезающий из «наливного яблочка» личности, будет намекать на посещающие героя сомнения. И сомнение это вынесено даже в название — «Записки невысокого человека». «Паучья лапка» евангелиста Луки таким образом соотносится с комплексом маленького роста героя: всего-то «сто пятьдесят восемь с половиной сантиметров» [2, с. 17].
В начале романа обозначен и третий важный для понимания и личности героя, и стиля, и идеи момент. Координаты основного места действия полудеревни-полугорода Н-ска определены следующим образом: «Млечный Путь, Солнечная Система, Земля, Евразия, Россия, Красноярский край», после чего следует отсылка к примечаниям. Примечания даны в конце романа, наличие их, характер большинства из них, обилие условных образов позволяют ставить вопрос не только о желании автора уточнить некоторые малоизвестные реалии, но и о ярком игровом начале, об авторской мистификации, характерной для постмодернистских текстов. В частности, игровым комментарием, или псевдокомментарием, становится упоминание якобы существующих книг: «Последнее Великое Переселение Народов. Изд. Департамента Переустройства Поверхности Земного Шара, 100 г. от Р.М.П.» или «Анатолиада. Анекдоты, легенды и притчи Галактического Века. Париж. Изд. «Prometejion”, 105 г. от Р.М.П.» [2, с. 137].
Три указанных аспекта, их постоянное переплетение позволяют говорить, что, по сути, основная проблема жизни героя — проблема идентификации, и сугубо индивидуальной, личностной, и проблема идентификации в условной семье Матушки и ее деток — «кукушкиных детей», рожденных от разных отцов и оставленных ею на произвол судьбы, или попечение этих самых отцов.
Вначале об индивидуальной идентификации повествователя. Герой, как было отмечено, находится в тисках двух представлений о себе и двух проявлений себя. С одной стороны, это высокое представление о себе, варьирующееся в широком диапазоне от титула Отца-Императора, который отчасти до поры до времени надо полускрывать — лишь посвященные знают эту полутайну, до обозначения себя внуком ВсеСущего, внуком Бога: «Он породил из себя самого нашу матушку, мы, выходит, ему внучата, а он нам — дедушка» [2, с. 54]. И в таком случае получается, что Иегова ему родной дядька, а Спаситель — двоюродный брат. Имени Христа герой все же не озвучивает, но точно утверждает, что Новый Адам ему кузен. Герой разрешает себе не раз и не два обращаться к имени Того-Кто-Сверху-Всем-Заправляет-Кто-Бы-Он-Ни-Был.
В обращениях к ВсеСущему есть и признание его верховной власти, и богоборчество. Об этом свидетельствует и частотность подобных мыслей, обращений, и постепенно проникающее в героя убеждение, что Бог предназначил его для чего-то грандиозного. Предназначенность проявляется, в частности, в особом таланте, умении гипнотизировать людей. Они подчиняются его идеям и предложениям сразу же. Свой талант Роман иногда называет вирусом, ибо сам то верит в него, то начинает сомневаться и удивляться магической сущности своего внезапно открывшегося дара. Вирус его заразный, он заражает не только соседей, торговцев на барахолке, но и иностранцев. Неслучайно журналисты и другие гости рвались приехать в Н-ск на церемонию открытия Всемирного центра, ведь вирус достиг и их.
С другой стороны, Роман остается провинциалом, чувствующим свою ущербность из-за маленького роста, некрасивой, какой-то сиротской одежды. Профессия его инженер-технолог литейного производства не помогает преодолеть телесную и социальную закомплексованность. Знаменательны его рассуждения в момент первой переброски («я обнаружил себя») в Америку: «Если русский — из самого что ни на есть медвежьего угла и очень боится показаться смешным, неуклюжим, потерянным. За тридцать лет оседлой жизни я отвык от своей Большой Родины — Земного Шара, отвык легко и просто заговаривать с незнакомыми людьми, превратился в провинциала, скрывающего робость за напускной наглостью» [2, с. 66]. «Я был смешон. На мне был черный мятый костюм с широчайшими лацканами, обут я был в коричневые босоножки из искусственной кожи — прорези босоножек открывали непристойно пестрые носки, небрит и дико усат» [2, с. 66].
На постоянной контроверзе двух обличий героя, с одной стороны, подобного ВсеСущему, неожиданно всемогущего, повелителя судьбы, времени и пространства и, с другой — приниженного, некрасивого, обычного, неуверенного в себе, строится концепция его личности. Первая часть связана с миром, с понятием «Земной Шар» как одной из любимых характеристик мира, со всеми яркими, загадочными, шокирующими братьями и их свитой, с образом дона Антонио. Вторая часть связана с полудеревней-полугородом Н-ск, с одноклассниками, соседями, коллегами, жителями Н-ска.
Герой обладает цепкой памятью на произвольные события времени. В первой своей ипостаси он постоянно припоминает, как что-то и где-то происходило. Временной размах, свидетельством чего становятся хотя бы упоминаемые в тексте рыцари, один из которых по имени Персиваль из кастильского замка перемещается в полудеревню-полугород Н-ск, а больше всего пространственный размах, пространственные перемещения-скачки, подключающие к истории жизни Романа Пузырева и замок в Мадриде, и норвежский поселок Свербрукенен, и условное государство Кания, и пребывание в Париже и в Америке, и создают по-своему грандиозную, но пеструю картину мира. Важно, что для героя не существует особых государственных границ, он волен перемещаться туда, куда захочет, и без аргументации и мотивации, почему он это делает. Желания героя и, возможно, перст судьбы ведут его по миру и по жизни.
Все многочисленные локации мира должны стекаться к новой главной столице мира — Н-ску, месту, соположенному второй ипостаси героя. Русская кровь матушки и долгие годы жизни в Н-ске придали ему особое значение в глазах героя.
Это основное место его бродячей жизни, неслучайно с 14 лет и до 44 лет он в основном был связан с ним. В Н-ске же главным топосом становится барак Пузы-рева, ободранные комнаты, наделенные сказочным свойством вмещать в себя столько человек, сколько их будет по условиям развития действия.
Вообще места и события нанизываются на фабулу, как бусины. В появлении тех или иных топосов, тех или иных персонажей нет предопределенности, но есть заданность. И заданность эта вытекает из желаний героя. По сути, время и пространство в романе уничтожены. Произвольность обращения к ним, затуманен-ность переходов неоспоримы. Можно процитировать в связи с этим отзыв-рецензию на первый роман, автором которой названа Ираида Осипова, но текст размещен в интернете Юрием Извековым, бурятским поэтом и журналистом: «По-моему, это множество выхваченных кусков жизни действующих лиц, порой не имеющих особо отношения друг к другу, но как-то оказывающихся в данном месте и обстоятельствах» [4].
В момент, казалось бы, наивысшего торжества — когда он должен был провозгласить на церемонии Первого Камня начало строительства Всемирного Центра в Н-ске, — Роман в страхе перед возможной мировой катастрофой конца жизни на земле объявляет «С Центром нужно кончать… Пускай все остается как есть» [2, с. 126]. Произнося эти слова, он по-прежнему колеблется. Этот момент церемонии как будто бы запечатлел и момент истины (возможный художник мог бы нарисовать в этот торжественный момент Храм Абсолютной Истины), и ничтожество героя, называемого самим Романом «чернявым низкорослым усатым человечком». «Лицо человечка, мучимого внутренней борьбой между гордостью, страхом, чувством ответственности за дела рук своих, дышало бы решимостью исполнить свой нелегкий долг, и сверху на него благосклонно взирали бы какие-нибудь новые олимпийцы, любители правды-матки. Ожиданий заказчиков я бы не стал обманывать» [2, с. 126].
Весьма знаменательный фрагмент, в котором абсолютно разведены внутренний и внешний человек и между решимостью исполнить долг (как будто проявление внутреннего человека во внешнем человеке) и чувствами гордости, страха (реальный внутренний человек) нет никакой связи. Этот диссонанс между настоящими чувствами и маскировкой чувств, похоже, не осознается автором. Тем более важно констатировать, что целостности человеческой личности героя нет. Это более сложный вариант, чем печоринское признание «Во мне два человека».
Если у Лермонтова один человек живет, а другой мыслит и судит его, то в анализируемом романе один человек пытается вырваться из обычной жизни, прожить другую жизнь, а другой человек, бродяга, космополит, представитель группы ярких личностей, не может жить без воплощения в обычном виде, не может отрешиться от образа жизни обычного человека, обитателя провинции. Они как бы проступают друг в друге, не имеют полноты автономного существования, не сепарированы. Отсюда в первом много виноватости маленькой личности, во втором недоверие к себе как к великому.
Последовавшее затем «Объявляю Н-ск столицей мира» должно было показать величие возможностей Пузырева землякам, «так и не осознавшим предела моего истинного могущества» [2, с. 126]. Герой тогда стал тем, кто обманул заказчиков, читай — Богов, «ради высшей истины». Тем самым он поставил себя выше Все-Сущего и остался единственным высшим существом на земном шаре. Не это ли является одной из особенностей героя, что по другому поводу отмечал читатель романа «Пузыри жизни»: «Невероятное презрение к роду человеческому. Такая ирония насчет всего!» [4].
Надо обязательно отметить, что человек в мире А. Игумнова одинок. Все шесть братьев и единственная сестра не имеют своих семей. Более того, одиноко и окружение родственников — секретарь Романа — загадочный дон Антонио, помощники Лауреата, шофер Эм Джи, рыцарь Персиваль. При этом одиночество не страшит их, они поглощены своими страстями. Это могут быть страсти рационального ума у брата с условным именем Лауреат, ибо он получил две Нобелевские премии. Страсти преступные, как у брата Мафиози. Страсти искусства и пиара, как у сестрицы Эм Джи.
Так же одинока их мифическая Матушка, образ которой сближен, например, с Матерью Природой, ведь матушка плодлива — родила 28 детей, 21 из которых неизвестны Роману, да он их и не хочет знать; вездесуща, где только она ни была и куда только ее ни занесло; бесстрастна как космос. Матушка сближена с вечностью, ведь, возможно, она родилась тогда, когда появился homo sapiens; возможно, она была дочерью ВсеСущего. Во всяком случае автор играет мифами первотво-рения и христианского сотворения мира. В мистическом, игровом пространстве романа действует время матушки РМП — «от Рождества Матушки Подмастерьев» [2, с. 92], которое пытается шутливо спорить с каноном от Рождества Христова.
В то же время композиционно роман строится на хронике 7 дней подготовки к созданию в Н-ске Всемирного центра. Конечно же, 7 дней — это аллюзия к 7 дням творения в рамках христианской мифологии. В день третий на двух братьев снизошло откровение, вызванное результатами наблюдения за звездным небом, проведенного учениками одного из братьев. Страшное движение «ползущих звезд» должно означать, что через три дня наступит конец света. Это усилит в романе фабульную напряженность. Нагнетание напряженности, однако, не завершится катастрофой. Автор даст возможность своему «внезапному» герою мягко разрулить ситуацию.
Финальные аккорды через 13 с половиной лет в диалогах Романа с доном Антонио, братом Лауреатом и сестрой Эм Джи проявили инфернальную суть последних, ибо с годами они только молодеют и набирают жизненные обороты. Негритянский брат Его Милость Пророк Всесущего, похоже, также инфернален, ибо назвал дона Антонио с его недоразвитыми отростками на ногах (дьявольскими копытами?) земным воплощением ВсеСущего. Потусторонность Дона Антонио не раз подчеркивалась автором. Воплощается типовой для постмодернистской литературы принцип, когда «запредельное и инфернальное не просто проникло в наш реальный мир — соседство с миром людей темных мистических сил, ужасающих и одновременно манящих, является вполне органичным, законным и почему-то даже неудивительным» [5, с. 38]. Город Н-ск в эпилоге забыт, герой просто отчужден от него.
Заключение. Изучение романа «Кукушкины дети» показало, что концепция человека построена на контроверзе противоречивых, антиномичных начал — тя- готении к идее сверхчеловека с его декларируемой исключительностью и пребывании в будничности, обыкновенности с ее комплексами. Оба начала стремятся к своему пределу, коррелируют как с особенностями хронотопа, так и с сюжетнокомпозиционным построением. Мифичность и принципиальная непроясненность образов Матушки, братьев, дона Антонио и самого Романа Пузырёва указывают на «недовоплощенность героев», которая ведет, как следствие, к «недораскрытости авторов» [7].
Список литературы Концепция личности в романе Андрея Игумнова «Кукушкины дети (записки невысокого человека)»
- Андрей Игумнов. URL: https://proza.ru/avtor/igumnov2 (дата обращения: 25.12.2023). Текст: электронный.
- Игумнов А. Кукушкины дети // Байкал. 2012. № 5-6. С. 17-144. Текст: непосредственный.
- Игумнов А. Пузыри жизни: роман. Улан-Удэ: НоваПринт, 2019. 382 с. Текст: непосредственный.
- Извеков Ю. Осипова И. Рецензия на "Пузыри жизни". URL: https://proza.ru/avtor/igumnov2 (дата обращения: 25.12.2023). Текст: электронный.
- Имихелова С. С. Non-fiction или autofiction?: об одной тенденции в русском рассказе рубежа ХХ-ХХ1 вв. // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 1. С. 34-42. Текст: непосредственный.
- Имихелова С. Новые лауреаты литературной премии им. И. К. Калашникова. URL: https://burunen.ru/news/culture/82111-svetlana-imikhelova-novye-laureaty-literaturnoy-premii-imeni-i-k-kalashnikova (дата обращения: 25.12.2023). Текст: электронный.
- Новиков Вл. Филологический роман. Старый новый жанр на исходе столетия // Новый мир. 1999. № 10. URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1999/10/filologicheskij-roman.html (дата обращения: 25.12.2023). Текст: электронный.
- Степанова И. М. Филологический роман как "промежуточная словесность" в русской прозе конца XX века. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filologicheskiy-roman-kak-promezhutochnaya-slovesnost-v-russkoy-proze-kontsa-xx-veka (дата обращения: 25.12.2023). Текст: электронный.