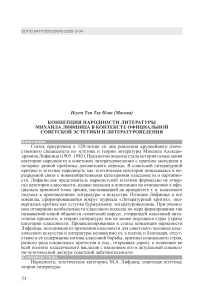Концепция народности литературы Михаила Лифшица в контексте официальной советской эстетики и литературоведения
Автор: Нгуен Тхи Тху Нган
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья приурочена к 120-летию со дня рождения крупнейшего отечественного специалиста по эстетике и теории литературы Михаила Александровича Лифшица (1905–1983). Предметом анализа стала история осмысления категории народности в советском литературоведении с кратким экскурсом в историю данной проблемы досоветского периода. В советской литературной критике и эстетике народность как эстетическая категория описывалась в неразрывной связи с новоизобретенными категориями классовости и партийности. Лифшиц как представитель марксистской эстетики формально не отвергал категории классовости, однако оказался в оппозиции по отношению к официально принятой точке зрения, настаивавшей на приоритете т. н. классового подхода к произведениям литературы и искусства. Позиция Лифшица и его команды, сформировавшейся вокруг журнала «Литературный критик», подвергалась критике как уступка буржуазному литературоведению. При очевидном отмирании необходимости классового подхода по мере формирования так называемой новой общности «советский народ», стирающей классовый антагонизм прошлого, в теории литературы тем не менее ощущался страх утраты категории классовости. Проанализированная в статье концепция народности Лифшица, исходившая из признания полезности для советского человека классического искусства и литературы независимо от, а подчас и благодаря, отсутствию в ее содержании мотива классовой борьбы, критики социального строя, разного рода социальных протестов и под., открывала дорогу к освоению во всей полноте классического наследия с введением его в актуальный социально-эстетический дискурс советской действительности.
Народность, эстетические категории, М.А. Лифшиц, советская эстетика, теория литературы
Короткий адрес: https://sciup.org/149149373
IDR: 149149373 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-34
Текст научной статьи Концепция народности литературы Михаила Лифшица в контексте официальной советской эстетики и литературоведения
The article is dedicated to the 120th anniversary of the birth of the leading Russian specialist in aesthetics and literary theory Mikhail Aleksandrovich Lifshits (1905–1983). The subject of the analysis is the history of understanding the category of nationality in Soviet literary criticism with a brief excursion into the history of this problem in the pre-Soviet period. In Soviet literary criticism and aesthetics, nationality as an aesthetic category was described in an inseparable connection with the newly invented categories of “klassovost” (the class point of view) and “parti-jnost” (the party point of view). Lifshits, as a representative of Marxist aesthetics, did not formally reject the category of “klassovost”, but constantly found himself in opposition to the officially accepted point of view, which insisted on the priority of the so-called “the proletarian class approach” to works of literature and art. The position of Lifshits and his team, formed around the “Literary Critic” magazine, was criticized as a concession to “bourgeois literary criticism”. With the obvious fading away of the need for a class approach while the so-called new community of the “Soviet people” was formed, erasing the class antagonism of the past, in theory of literature, up until recent times, there was an obvious fear of losing the category of “class point of view”. Lifshits’s concept of national character in art (“narodnost”) based on the recognition of the world classical literature usefulness for Soviet people regardless of (and sometimes thanks to!), the absence in its content of the motive of class struggle, criticism of the social system, various kinds of social protests, etc., making the world classical heritage accessible to the current socio-aesthetic discourse of Soviet reality.
ey words
National character of literature; aesthetic categories; Michail Lifshitz; Soviet aesthetics; literary theory.
Проблема народности литературы стала предметом внимания в отечественной критике, начиная с первой трети XIX в., о ней высказывались П.А. Вяземский, А.С. Пушкин, Аполлон Григорьев, западники и славянофилы, однако наибольший вклад в осмысление ее как эстетической категории применительно к литературе сделал В.Г. Белинский. Отвергая привычное отождествление народности с изображением быта и нравов простонародья, он постепенно пришел к выводу о том, что необходимо производить эту категорию из этнокультурных особенностей социума. Иначе говоря, во главу угла должны быть поставлены мировоззренческие особенности, на этом основании Белинский обнаруживает признаки народности в творчестве литераторов, не принадлежащих к так называемым низшим сословиям, и в произведениях, не ограничивающих себя тематикой крестьянского быта или быта городской бедноты:
Тайна национальности каждого народа, – писал Белинский, – заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи. Чтоб верно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность... [Белинский 1948, 507].
Несмотря на огромный вклад Белинского в разъяснение проблем, связанных с народностью, революционно-демократическая парадигма русской культуры 1860–1870-х гг. не могла не возобновить интереса к пониманию феномена народности, так что Н.А. Добролюбов посвящает вопросу специальную статью «О степени участия народности в развитии русской литературы», считая, что признак народности в литературе должен проявлять себя в выражении интересов угнетенных масс и в возвышении этих интересов до общенационального уровня. Главным же препятствием виделась недоступность литературы как таковой для широких масс простого народа и погруженность дворянской литературы в свою узко-сословную жизнь. «Массе народа чужды наши интересы, непонятны наши страдания, забавны наши восторги», – писал критик [Добролюбов 1986, 360].
Таким образом, ставится вопрос о полезности литературы для народных судеб, и эта позиция будет востребована позднее в советском литературоведении, когда проблема народности литературы оказалась увязана с проблемами так называемой классовости и партийности искусства, возведенных в ранг эстетических категорий. Марксистский подход, как казалось в 1920-х гг. ряду новых теоретиков от литературы, должен предполагать жесткую связь между классовой (сословной) принадлежностью писателя и выражением интересов его класса, что не позволяет говорить о народности до тех пор, пока в России не появились писатели, вышедшие из народной среды и отражающие интересы народа (последнее при этом есть понятие дискуссионное). Более того, в условиях страны победившего пролетариата интересы именно этого класса признавались общенародной ценностью, так что фактически категории пролетарской классовости и партийности сливались с представлением о народности.
В 1936 г. в публикациях «Правды» и «Литературной газеты» был по ставлен вопрос о народности в связи с распространенностью выше отмеченного вульгарно-социологического представления о классовости литературы как прямой зависимости мировоззрения писателя от взрастившей его социальной среды. Однако переход в начале 1930-х гг. от концепции мировой революции и пролетарского государства к построению социализма в одной отдельно взятой стране оказался невозможным без ориентации на национальную традицию – для мобилизации сил всего народа, не разрываемого сословными различиями [Невежин 2003; Пыжиков 2015]. В верхах изменяется отношение к русской литературной классике, и как пишет Т.В. Кузнецова, «разработанная еще Белинским теория, согласно которой качество народности как бы объективно присуще лучшим произведениям искусства и в этом смысле относительно независимо от происхождения, круга общения и даже политических позиций их авторов, позволяло причислять к “своим”, “народным” практически все наиболее значительные художественные явления прошлого, которые вульгарная социология объявляла “классово чуждыми”. Таким образом, формулировалась заявка на “магистральное направление” в национальном и мировом культурно-историческом развитии, а “социалистическая культура” становилась высшей ступенью и вместе с тем логическим завершением многовековой работы лучших умов человечества» [Кузнецова 1999].
Среди противников вульгарно-социологического подхода сформировалась группа, не сводившая к полезности для советского народа лишь той части литературы, которая непосредственно выражает узкоклассовые интересы пролетариата. Ведущее место среди сторонников этого подхода, получившего у его противников название «теории абстрактной народности» – занимал крупней- ший представитель марксистской эстетики Михаил Александрович Лифшиц, составитель хрестоматий «Маркс и Энгельс об искусстве» (первое издание – 1933) и «Ленин об искусстве» (1938), автор монографии «Карл Маркс и общественный идеал» и ряда серьезных трудов по теории литературы и искусства. Сторонников Лифшица объединил журнал «Литературный критик», среди авторов которого были ближайший соратник Лифшица Георг (Дьёрдь) Лукач, Е.Ф. Усиевич, И.А. Сац, В.Р. Гриб, писатель А.П. Платонов, выступавший как критик под псевдонимом Ф. Человеков. Они проводили в жизнь идею полезности всего мирового художественного наследия для современной советской культуры, основываясь на общечеловеческих ценностях, получивших выражение в понятиях реализма, гуманизма и народности в широком ее понимании.
В январе 1936 г. Лифшиц публикует в «Литературной газете» статью «Ленинизм и художественная критика», и ссылаясь на ленинскую мысль о том, что искусство принадлежит народу, делает вывод: « правдивое отражение жизни и народность – вот два принципиальных критерия ленинской критики, две стороны одного и того же целого» литературы [Лифшиц 1986a, 195] (курсив оригинала – Н.Н. ). Понятие «правдивости», как известно, стало ключевым в определении литературы социалистического реализма, будучи зафиксировано в Уставе Союза советских писателей («правдивое, исторически-конкретное изображение действительности в ее революционном развитии» [Устав 1934, 716].
Несмотря на вполне здравый подход к осмыслению категории народности, идеи Лифшица подверглись жесткой критике в статьях В. Кирпотина, М. Сере-брянского, Вл. Ермилова как опасный отход от «классовых позиций», идущий вразрез с утвержденным на Первом всесоюзном съезде писателей представлением об абсолютном приоритете литературы соцреализма.
Лифшиц пытался отстаивать свою точку зрения: 23 мая 1938 г. по случаю вступления в должность заведующего кафедрой теории и истории искусства в Институте философии, литературы и истории (ИФЛИ) он выступил с большим докладом «Народность искусства и борьба классов», знаменуя новый виток дискуссии о категориях народности, классовости и партийности. Автор доклада связал народность непосредственно с уровнем мастерства художника, считая, что вся высокая мировая художественная классика по определению народна, ибо обладает потенциалом полезности для народа. «Для нас, в отличие от вульгарных социологов, народность искусства является объективной истиной, – заключает Лифшиц. – Нельзя согласиться с теми, кто считает, что рядом с высоким народным искусством может существовать высокое искусство, враждебное народу, антинародное. Это также невозможно, как невозможно выразить в художественной форме эксплуататорские, классовые интересы» [Лифшиц 1986b, 248]. Лифшиц приходит к выводу о том, что необходимо ввести понятие социального эквивалента народности подлинного искусства, который заключается в ценности для народа высших достижений художественной культуры, установив «его формы в смене событий истории и художественном развитии человечества» [Лифшиц 1986b, 249].
Признаком народности творчества Пушкина Лифшиц видит «благородную простоту» его поэзии, отличную, впрочем, от простоты фольклорной и от простоты допушкинского периода, не свободной от манерности, чувствительности, ложной позы и даже – от «бремени романтизма нового века» [Лифшиц 1986b, 251].
В докладе ставился главный вопрос, что делать с разными типами народности и с творчеством художников, относимых к разным культурным пара- дигмам в аспекте полезности для советского народа. Лифшиц видит главную трудность в том, что в рамках официально принятого в советских общественных науках представления о социальном прогрессе, последующее должно в какой-то степени превосходить предыдущее, но оказывается, что мастера эпох Возрождения и классицизма, протестовавшие против религиозного мракобесия, княжеской деспотии и под. оказывались «выше» в отношении приближения к истинной народности, чем живший после них Гёте. С другой стороны, и Гёте, и Шиллер «подняли поэзию немецкого народа на общенародный уровень, утвердили ее национальный характер, прежде чем окончательно сформировалась сама нация, открыли литературу для драгоценных источников фольклора <…> создали тонкую одухотворенную лирику и песню на прекрасном, простом и общезначимом языке» [Лифшиц 1986 (b), 259]. Те самые Гёте и Шиллер, которые при этом «в своем мировоззрении, в своей жизненной позиции <…> отступали от наследия Просвещения в сторону, казалось бы, антидемократическую, замыкаясь в своей артистической резиньяции» [Лифшиц 1986b, 259]. Интересен приведенный автором пример из истории отечественного искусства, где искусство Древней Руси оказывается «народным содержанием» богаче искусства XVIII–XIX вв., при том, что считать его более «прогрессивным» нельзя – как питавшееся религиозными канонами, но при этом оно как бы обращено к широкой массе народа.
Важнейший вывод Лифшица состоит в различении им трех ступеней формирования народности. Первая ступень определяется как примитивная народность, которой соответствует переплетение демократических начал с религиозными иллюзиями и рабским подчинением существующим несправедливым социальным порядкам. Это искусство древнего Востока. Следующая представлена эпохой «аристократической демократии», эпохой классического искусства, ее содержание составляют лучшие достижения Древней Греции, высокого Возрождения, высшие достижения поэзии Германии и пушкинский период русской дворянской культуры. Далее наступает момент, когда назрел серьезный разрыв между высокой культурой и жизнью народа:
Приходят новые люди, сознающие историческую задачу соединения искусства с народом на почве современной действительности. Они вступают в борьбу от имени самого народа, его реальных материальных и духовных потребностей за иную, иначе понимаемую народность. В России это были разночинцы, в странах Западной Европы еще ранее – представители третьего сословия, бюргерства [Лифшиц 1986b, 266].
Такой видится третья ступень в развитии народности в искусстве.
В итоге Лифшиц предлагает различать три этапа на пути анализа произведения литературы в контексте категории народности. Первое это выявление того, какие взгляды разделяет художник и как они обусловлены социальной сре- дой, к которой он принадлежит. Однако этого мало, поскольку Пушкин не сводим лишь к дворянской приверженности монархизму и к утопическим взглядам дворянства об улучшении жизни низших сословий. На втором этапе необходимо выявить, насколько Пушкин был типичным представителем своего класса, или же в нем обнаруживается ряд внутрисословных противоречий, нашедших отражение в его творчестве, при этом мы не должны искусственно превратить его в революционного демократа, – оговаривает Лифшиц. Народность Пушкина, по Лифшицу, обусловлена его постоянным стремлением осмыслить и преодолеть противоположность между дворянской средой и народом.
Наиболее трудной автору представляется третий этап анализа: нужно принять, что приближение художника к народу иногда происходит не только вопреки его сословно детерминирующей позиции, но и благодаря ей , каким бы странным это ни показалось. Таков диалектический подход, утверждает Лифшиц, иллюстрируя это положение любопытным примером, когда пишущий образ Пресвятой Богородицы средневековый художник проникается необходимостью отражения сущности материнства и гениально воплощает это, создавая исполненное народности произведение, но помогает-то ему в этом его религиозное мировоззрение. При этом подчеркивается, что народным в высоком смысле слова произведение будет тогда, когда автор фрески или иконы не позволит увлечь себя «религиозной машинерией», сухой символикой, которая по канону должна сопровождать образ святости.
Точно так же в «Евгении Онегине» благодаря высокой степени художественного решения образов у современного читателя не возникает отторжения при восприятии тех мест романа, в которых ощутима симпатия Пушкина к его «непрогрессивному» сословию. В решении Татьяны Лариной сохранить верность мужу в этом случае видится, в духе Белинского, принципиальное достоинство русской женщины как таковой, а не привязанность сословным этическим принципам – «апология семейной дворянской чести» [Лифшиц 1986b, 287].
В начале 1940 г. Лифшиц выступает в печати с двумя статьями в защиту позиции «Литературного критика»: «Надоело» (Литературная газета. 1940, 10 января) и «В чем сущность спора» (Литературная газета. 1940, 15 февраля). Отстаивая высочайшую ценность творчества Шекспира при том, что взгляды драматурга могут трактоваться как более отсталые по сравнению с драматургами XVIII–XIX вв., Лифшиц утверждает: «Все великие явления в искусстве основаны на передовых идеях, глубоком и прогрессивном мировоззрении. Однако неправильно думать, будто художественное развитие прямо пропорционально прогрессу и просвещению» [Лифшиц 1940, 3]. Он убежден, что «все великое в искусстве имеет своим основанием объективную правду, народность, прогрессивное мировоззрение» [Лифшиц 1940, 3].
Публикуя статью Лифшица, редакция «Литературной газеты» в том же номере от 15.02.1940 г. поместила статью Иоганна Альтмана, направленную на разоблачение «тенденции», представленной Лифшицем и Лукачем и их командой. Альтман пишет:
Игнорирование классового содержания и классового анализа творчества великих художников прошлого создает возможность произвольно, ненаучно, не по-марксистски оперировать такими понятиями, как «народ», «гуманизм», «человечество», «прогресс». Произвольно оперируя этими понятиями объективисты из «течения» Лукача-Лифшица становятся на субъективистскую точку зрения <…> Объективи- сты, оперирующие лишь одной абстрактной меркой «народность» (не вникая в анализ конкретной классовой борьбы народа данной страны в данную эпоху), – это те же вульгарные социологи наизнанку [Альтман 1940, 3].
Дискуссия завершается тем, что Оргбюро ЦК ВКП(б) 26 ноября 1940 г. выносит решение «прекратить издание обособленного от писателей и литературы журнала “Литературный критик”» [О литературной критике 1940, 62]. «Слова о красоте, об отражении искусством действительности, о народности искусства воспринимались как старорежимная буржуазная пропаганда, удел эмигрантов-белогвардейцев, не могущие звучать на страницах советских изданий. Высокая оценка творчества Пушкина, Толстого, Гоголя, даваемая Лифшицем, сразу же вызвала обвинения его в немарксизме, в реакционности, в протаскивании правых и реставраторских идей» – справедливо отмечает Р.Р. Вахитов [Вахитов 2023].
Под удар попал и журнал «Литературное обозрение» (его, правда, позднее возобновили в ИМЛИ), оба «отличал не только высокий художественный уровень: возникшие как проводники партийной идеологии в советской критике и оценке литературы, они [журналы – Н.Н. ] оказались честнее, свободнее прочих идеологических институтов того периода», – пишет Т.В. Левченко [Левченко 2017, 42].
Хотя в истории советской критики обычно писалось о том, что дискуссии исчерпали себя к 1940 г., позиция Лифшица в вопросе народности по-прежнему виделась официальному литературоведению опасно соблазнительной, поэтому разоблачению ее уделено немалое место в широко известном университетском учебнике крупнейшего литературоведа-методолога Г.Н. Поспелова «Теория литературы» (первое издание 1940 г., второе – 1978 г.). «Противопоставив классовой идеологии писателей народное значение их произведений, которое возникает в результате творческого отражения в них “внешней действительности”, – писал Поспелов, – Лифшиц и его единомышленники отрывали жизнь народных масс от жизни господствующих классов, так же как сторонники “абстрактно-классовой” социологии отрывали эти классы от жизни народа» [Поспелов 1978, 182]. Однако данное утверждение Поспелова противоречит мысли Лифшица о том, что хотя «народ не имел или почти не имел своих непосредственных выразителей в искусстве прошлого <…>, это не значит, что искусство и литература развивались без непосредственного влияния основной массы человечества» [Лифшиц 1986a, 194].
В чем же тогда состоит народность литературы, по мнению Поспелова? «Произведения получают народное значение прежде всего благодаря своей классовости» – считает он, – приводя в пример Н.В. Гоголя, народность которого вытекала из «критического осмысления им характеров помещиков и чиновников» [Поспелов 1978, 183] (курсив оригинала – Н.Н.). При этом официальная позиция советского литературоведения в вопросе народности продолжала страдать внутренним противоречием. Чтобы попытаться не декларативно, но фактически отойти от вульгарно-социологического подхода, упор в вопросе народности переносится на реалистичность художественного отражения действительности. То есть во главу угла ставится реализм, в то время как Лифшиц говорит о народности и романтического, и даже религиозного искусства. Обратимся к статье В.В. Ванслова из подготовленного Институтом философии АН СССР в 1956 г. сборника «Вопросы марксистско-ленинской эстетики». С одной стороны, утверждается, что «искусство, выражающее интересы реакционных классов, является антинародным» [Ванслов 1956, 238], с другой стороны, говорится, что «с какими бы классовыми симпатиями и взглядами это искусство ни было связано, но если оно остается реалистическим, то не теряет своего народного значения» [Ванслов 1956, 239]. В рассуждении о народности используются расплывчатое с научной точки зрения понятие передовой идейности:
передовая идейность искусства является решающим критерием его народности. Народность искусства не означает его внеклассово-сти <…> Художник всегда выражает в искусстве взгляды, мировоззрение, интересы того или иного класса [Ванслов 1956, 237] (курсив наш – Н.Н .).
Далее следует утверждение, что «все русское классическое реалистическое искусство глубоко народно. Оно пронизано идеей борьбы за освобождение народных масс от социального гнета» [Ванслов 1956, 240]. Неясно: либо к классике относится только то, что пронизано идеей борьбы, либо весь русский реализм пронизан этой идеей и он по сути «глубоко народный».
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что умеренно-консервативная позиция марксиста Лифшица выглядит привлекательней с точки зрения логических оснований представления о полезности классической литературы, чем позиция официального советского литературоведения, приводившая к нескончаемым спорам о прогрессивности или вредности для народа взглядов того или иного писателя из признанных классиков мировой литературы. Вывод же Лифшица о том, что не следует измерять степень истинной народности искусства близостью его к творчеству широких масс народа в прошлые эпохи фактически развивал представление о народности, заложенное В.Г. Белинским, который, по нашему мнению, наиболее глубоко разработал этот вопрос. Нельзя не отметить также практически важной роли Лифшица и его единомышленников в борьбе за обеспечение доступности мировой классики для советского читателя.