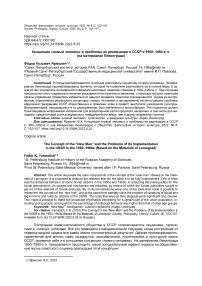Концепция «новый человек» и проблемы ее реализации в СССР в 1950-1960-е гг. (на материалах Ленинграда)
Автор: Ярмолич Фдор Кузьмич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные компоненты концепции «нового человека». На материалах Ленинграда проанализированы причины, которые не позволили реализовать ее в полной мере. К одной из них относилось асоциальное поведение некоторых советских граждан в 1950-1960-е гг. При изучении предпосылок этого социального явления указываются его причины и механизм, с помощью которых советские органы управления стремились избавиться от данного элемента советской повседневности. Одним из инструментов, позволявших реализовать концепцию «нового человека» и одновременно частично решить проблему нарушения гражданами СССР общественных и правовых норм и правил, выступали учреждения культуры. Инструментарий, находившийся в их распоряжении, был значителен и многообразен. Это позволяло делать транслируемую информацию интересной для определенной части городского населения, в том числе для молодежи, среди которой доля асоциального поведения была выше, чем в других возрастных группах.
«новый человек», хулиганство, учреждения культуры, образ, ленинград
Короткий адрес: https://sciup.org/149140419
IDR: 149140419 | УДК: 94(47)“195/196” | DOI: 10.24158/fik.2022.8.25
Текст научной статьи Концепция «новый человек» и проблемы ее реализации в СССР в 1950-1960-е гг. (на материалах Ленинграда)
В современной историографии часть ученых высказывают точку зрения, что теоретический постулат о «человеке коммунистического завтра» разрабатывался в спешке, поэтому ему не хватило проработанности, главные его положения носили общий характер и в должной мере не объяснялись населению страны: «С “новым человеком” разобрались пока просто, хотя и исключительно теоретически. Каждый советский человек обязан стремиться к тому, чтобы стать “новым” коммунистическим человеком, а конкретные черты этого “гомо коммунистикус” пусть додумывает самостоятельно, достаточно лишь дать общее направление. В результате об образе “нового человека” было известно лишь то, что в нем должны гармонично сочетаться “духовное богатство, нравственная чистота и физическое совершенство”» (Ванюков, 2007: 156). Однако это утверждение не совсем верно. После смерти И.В. Сталина начинается пересмотр некоторых постулатов советской идеологии, в том числе идеи человека. В конце 1950-х гг. переосмысливается роль человека в меняющемся советском обществе, это находит отражение в материалах XXI съезда КПСС (1959 г.), в рамках которого руководство СССР предпринимает попытку сформулировать основные принципы будущей программы преобразования человека: «Вся идеологическая работа нашей партии и государства призвана развивать новые качества советских людей, воспитывать их в духе коллективизма и трудолюбия, социалистического интернационализма и патриотизма, высоких принципов морали нового общества, в духе марксизма-ленинизма»1. Именно в это время в информационном пространстве Советского Союза появляется термин «новый человек».
Обозначенное на XXI съезде стремление пересмотреть содержание идеи человека в полной мере воплощается в рамках XXII съезда КПСС, в материалах которого вопросу создания «нового человека» посвящаются две отдельные главы: IV «Развитие коммунистических общественных отношений и формирование нового человека» и V «Задачи партии в области идеологии, воспитания, образования, науки и культуры». Здесь детализация образа человека коммунистического общества достигла высшей точки. Ни до XXII съезда, ни после него такого внимания к данной проблеме в рамках съездов КПСС не уделялось. Уже материалы XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза (1966 г.)2 не содержат отдельных глав, описывающих представителя будущего советского социума, все ограничивается констатацией темпов роста уровня жизни, образования и культуры населения страны. В этом отношении показательным является периодичность употребления термина «новый человек» или его эквивалентов в материалах трех съездов КПСС конца 1950-х – 1960-х гг. В рамках XXI съезда понятие «новый человек» не использовалось, но фигурировали категории «формирование человека коммунистического общества» (1 раз) или «человек будущего» (1 раз); в программных и рабочих документах XXII съезда термин «новый человек» встречается 9 раз3; а XXIII – всего единожды4. Более того, в материалах последнего съезда эквивалента сочетанию «новый человек», как это было в программных документах XXI съезда, нет.
Обращение к идеологической, научной, научно-популярной литературе, периодической печати и другим источникам массовой информации 1950–1960-х гг. демонстрирует, что идея «нового человека» на протяжении обозначенного периода не только детально разрабатывалась, но и активно популяризировалась. Основные компоненты концепции представляют жителя будущего коммунистического общества обладателем научного мировоззрения; всесторонне, гармонично и творчески развитой личностью; располагающим высокими морально-нравственными принципами, эстетическими представлениями и гуманистическим взглядом на мир; занимающим активную политическую и общественную позицию; совмещающим в себе идею интернационализма и советского патриотизма; признающим особую роль коллектива и трудовых отношений в своей жизни.
Воплощение перечисленных постулатов зависело от многих факторов экономического, социального, культурного и политического характера. Свою лепту в этот процесс вносило и избавление общества от случаев асоциального поведения, информация о котором не замалчивалась властью, а выносилась на общественное обсуждение как через средства массовой коммуникации (литературу, периодическую печать), так и с помощью партийных, профсоюзных и производственных собраний трудовых коллективов организаций. На заседании Ленинградского городского комитета КПСС в 1955 г. обращалось внимание на случаи хулиганства в парках и садах города5, которые, к сожалению, не носили единичного характера, а были массовым явлением: «По официальным данным, преступность в СССР в 1950-х гг. стремительно росла, при этом большую часть зафиксированных правонарушений составляло хулиганство» (Котова, 2018: 180).
Нарушение норм общественной жизни было характерно для представителей всех возрастных категорий Ленинграда, но в наибольшей зоне риска находилась молодежь. В 1956 г. на собрании партийной организации ДК Промкооперации участники отмечали, что «вечера, танцы платные и закрытые вызывают просто горечь. Критерием качества вечера является количество разбитых стекол, количество машин из пикета. Что же делается на вечере? Надо больше внимания уделять вечерам и помочь Шилингу. Он больше внимания уделяет “контролю” – и мало бывает в зале. Нужно продавать билетов на 100–150 меньше. Быть может, сделать вечера не только для молодежи, но приглашать и людей более старшего возраста. На закрытых вечерах молодежи выступают коллективы самодеятельности – это сплошной фокстрот и душераздирающее самбо – наш контроль здесь отсутствует. Мало у нас утренников для молодежи»1. Проблемы в поведении молодого поколения обсуждались на конференции работников клубных учреждений Ленинграда (в декабре 1956 г.): «Мы подчас в ряде институтов сталкиваемся с фактами, позорящими звание советских студентов. Отдельные студенты приходят на вечера подвыпившими, ведут себя развязно, подражают так называемым “стилягам”, грубо обращаются с девушками и т. д. Это имело место на факультетском вечере Ленгосуниверситета геологического факультета, на вечере гидрометеорологического института, на факультетском вечере Горного института»2. Асоциальность в поведении фиксировалась не только в студенческой среде, но и в рядах трудовой молодежи. На совместном совещании Ленинградского областного совета профсоюза и Областного комитета ВЛКСМ (1958 г.) указывалось, что в столовых, находящихся вблизи заводов, в период получения заработной платы наблюдалась одна и та же картина: «по нескольку вечеров подряд молодые рабочие завода пропивают свои зарплаты. Эти выпивки в столовой стали традицией»3.
Наступление 1960-х годов не избавило советский социум от случаев нарушений отдельными его представителями правил общественной жизни и норм законодательства: «Основным контингентом несовершеннолетних преступников являются подростки, работающие на производстве. В 1962 г. они дали 56,6 % от общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; 16 % участников преступлений составили воспитанники училищ Профтехобразования, около 14 % учащихся школ РОНО. <…> Участились случаи, когда подростки, поступив на работу на предприятия, попадали под дурное влияние взрослых, имея самостоятельный заработок, начинают употреблять спиртные напитки, нарушают трудовую дисциплину, совершают преступления»4.
Конечно, на протяжении 1950–1960-х гг. городские власти стремились решить эту проблему, используя широкий инструментарий: от профилактических мероприятий до применения при необходимости более серьезных мер воздействия на человека, что имело положительный эффект. В частности, в Ленинграде в 1964 г. отмечалось снижение как общей преступности, так и детской5, но сделать из этого общий тренд в 1960-е гг., видимо, не удалось, поскольку уже в 1966 г. «преступность в Ленинграде остается высокой, медленно снижается число правонарушений, совершаемых подростками в возрасте до 18 лет. Недостаточно осуществляется профилактика правонарушений»6.
Список литературы Концепция «новый человек» и проблемы ее реализации в СССР в 1950-1960-е гг. (на материалах Ленинграда)
- Ванюков Д.А. Хрущевская оттепель. М., 2007. 239 с.
- Горелова Ю.Р. Образ города в восприятии горожан. М., 2019. 153 с.
- Горелова Ю.Р. Предпосылки формирования культурологической модели исследования городской среды (наследие Н.П. Анциферова, И.М. Гревса) // Региональные архитектурно-художественные школы. 2011. № 1. С. 256-259.
- Интеллектуальный досуг как фактор устойчивого развития социально-культурной среды урбанизированной территории (на материале Красноярского края) / под ред. Е.А. Ноздренко. Красноярск, 2015. 481 с.
- Котова Е.С. Организация досуга в садах и парках Ленинграда в 1950-х гг. // Вестник Омского университета. Сер.: Исторические науки. 2018. № 2 (18). С. 177-182. https://doi.org/10.25513/2312-1300.2018.2.177-182.