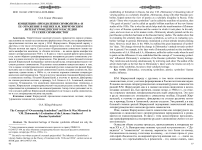Концепция "преодоления символизма" и ее отражение в оценке В.М. Жирмунским литературоведческого наследия русских символистов
Автор: Клинг Олег Алексеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: К 90-летию Ю.В. Манна
Статья в выпуске: 3 (50), 2019 года.
Бесплатный доступ
Теоретическое наследие русских символистов оказало решающее влияние не только на становление формализма в России, но на формирование представления поэтики как науки у В.М. Жирмунского. Жирмунский наряду с другими, в том числе отечественными символистами, стоял у истоков развития в России поэтики как науки. Если статью «Преодолевшие символизм» можно назвать манифестом акмеизма, то «Задачи поэтики» - не менее ярким манифестом нового литературоведения 1920-х гг. В связи с этим в данной работе прослеживается, каким образом трансформировалось восприятие русского символизма ученым и в каком контексте это происходило. Уже ранний, а в еще большей степени зрелый Жирмунский подчеркивал значительный вклад литературоведческого наследия русских символистов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в оценке литературоведческих концепций русских символистов ранний Жирмунский, как и в оценке наследия символизма в целом, воздавая должное им, был критичен, однако позже, в 1960-е гг., он отмечал огромное значение литературоведческих идей символистов. Это шло в русле эволюции отношения Жирмунского к символизму вообще. Поздний Жирмунский, в отличие от раннего, фиксировал не столько различие поэтики, к примеру, А.А. Блока и А.А. Ахматовой, сколько сходство. Установлено, что концепция «преодоления символизма» отразилась в оценке Жирмунским литературоведческого наследия русских символистов. Они перекликаются и развиваются во взаимоотражении. Автор статьи указывает на то, что в поздних работах Жирмунский возвращается не только к идеям символистов, но и к их литературоведческому наследию.
Жирмунский, преодоление символизма, поэтика, литературоведение символистов
Короткий адрес: https://sciup.org/149127201
IDR: 149127201 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00061
Текст научной статьи Концепция "преодоления символизма" и ее отражение в оценке В.М. Жирмунским литературоведческого наследия русских символистов
B.M. Жирмунский наряду с другими, в том числе отечественными символистами, стоял у истоков формирования в России поэтики как науки. В оценке наследия литературоведческих концепций русских символистов ранний В.М. Жирмунский, как и в оценке наследия символизма в целом, воздавая должное им, был критичен, однако позже, в 1960-е гг, он отмечал огромное значение литературоведческих идей символистов. Это шло в русле эволюции его отношения к символизму вообще. Поздний Жирмунский, в отличие от раннего, фиксировал не столько различие поэтики, к примеру, Блока и Ахматовой, сколько сходство. Уже ранний, а в еще большей степени зрелый Жирмунский подчеркивал значительный вклад литературоведческого наследия русских символистов.
Итак, оценки Жирмунским самого символизма как литературного направления и символистского литературоведения перекликаются и развиваются во взаимоотражении. В связи с этим целесообразно проследить, как трансформировалось восприятие русского символизма ученого и в каком контексте.
Осмысляя общие сходные процессы, происходившие в литературе начала XX в., С .А. Венгеров ввел понятие «русский нео-романтизм». «“Декаденты” и “символисты” по-своему, марксисты того более по-своему, богоискатели по-своему, толстовцы по-своему, - но только прочь от унылой серой обыденности, на широкий простор кипения сил...» - писал он, доказывая, что «чрезвычайность и романтизм - это, можно сказать, одно и то же» [Венгеров 1914, 19]. Венгеров находил стилевую доминанту эпохи в 1914 г, который наряду с 1912-м и 1913-м гг. был временем наиболее резкого размежевания с символизмом, с одной стороны, акмеистов, с другой, - футуристов (в статье 1909 г. «Победители или побежденные» [Венгеров 1909] отразился интерес известного ученого к «новейшей» литературе. Вероятно, это обусловило попытку Б. Лившица пригласить в качестве председателя одного из футуристических вечеров С.А. Венгерова [Лившиц 1989, 501-502]). Имея в виду не только «модернистскую», но и всю русскую литературу, Венгеров обнаружил «психологическое единство» 1890-1910-х гг: «Писатели одного хронологического поколения всегда теснейшим образом между собой связаны, хотя не всегда это осознают и ожесточенно враждуют между собою. Но ведь вражда (здесь и далее курсив наш. - О.К.) часто есть самое яркое доказательство того, что люди интересуются одним и тем же, но только подходят к предмету своих стремлений с разных сторон» [Венгеров 1914, 3].
Тем не менее «синтетическая» концепция Венгерова, для которой характерно утверждение, с одной стороны, «внешнего разнообразия (курсив наш. - О.К.)», а с другой, - «психологического единства» двадцатилетия 1890-1910-х гг. [Венгеров 1914, 3; 6], не была принята современниками. И не только на уровне манифестов новых поэтических школ. В 1916 г. в обстановке, как вспоминала А.А. Ахматова, «кампании по уничтожению акмеизма» [Ахматова 1989, 12] появилась знаменитая работа В.М. Жирмунского «Преодолевшие символизм». Позже (окончательно к 1924 г.) сформировалась еще одна своего рода концепция «преодоления символизма» Б.М. Эйхенбаума. В работе «Анна Ахматова. Опыт анализа» он писал об акмеизме: «Здесь - не «преодоление» символизма, а лишь отказ от некоторых тенденций, явившихся у позднейших символистов и не всеми ими одобренных (Кузмин, Брюсов)» [Эйхенбаум 1969, 88]. Подчеркивая, что «... в акмеизме, а в том числе и в творчестве Ахматовой, нельзя видеть нового направления», Эйхенбаум делает вывод: «Преодоление символизма принадлежит футуристам» [Эйхенбаум 1969, 88; 85].
Характерна оговорка, сделанная Эйхенбаумом, как можно предположить, в пику Жирмунскому: «Вопрос о литературных традициях Ахматовой не может быть выяснен сейчас - это дело будущих историков» [Эйхенбаум 1989, 139].
Отметим, однако, что ив 1916 г. Жирмунский писал о «двойственности» акмеистов по отношению к символистам: притяжении и отталкивании: «...словесные завоевания символизма сохраняются, культивируются и видоизменяются для передачи нового душевного настроения, зато душевное настроение, породившее эти завоевания, отбрасывается как надоевшее, утомительное и ненужное». Как считал Жирмунский, новое поколение поэтов «... может быть названо в большей или меньшей степени преодолевшим символизм» [Жирмунский 1977, 109]. Однако в статье, своего рода «академическом» манифесте акмеизма, упор тем не менее был сделан на идее «преодоления символизма». Именно как статья, выдвинув- шая эту концепцию, вошла она и в сознание современников и в сознание интерпретаторов последующего времени.
Идея «преодоления символизма» была развита позже (1920 г.) в работе Жирмунского «Два направления в современной поэзии» [Жирмунский 1977, 109]. В статье 1970 г. «Анна Ахматова и Александр Блок» В.М. Жирмунский вспоминал об атмосфере, в которой создавалась упомянутая статья: «Много лет назад, в 1920 г, когда противоположности живого литературного процесса были заметнее современнику, чем сходство (здесь и ниже курсив наш. - О.К.), мне пришлось сопоставить два стихотворения Блока и Ахматовой, написанные на аналогичную тему - любовной встречи в ресторане, - как пример “двух направлений современной лирики”, полярно противоположных по своему творческому методу» [Жирмунский 1977, 334]. Разбирая через пятьдесят лет стихотворение Блока «В ресторане» («Никогда не забуду, он был или не был, Этот вечер...») и стихотворение Ахматовой «Вечером» («Звенела музыка в саду...»), ученый обращал внимание читателей и на сходство этих двух произведений: «И все же, несмотря на принципиальное различие творческого метода, стихотворения эти связаны между собой - не только “современной” темой любовной встречи в ресторане, своеобразным “урбанистическим” фоном, на котором выступают отдельные сходные детали (“голоса скрипок”), но и трудно определимыми общими чертами времени, которые сама Ахматова позднее сумела воплотить как художник в восставших из прошлого образах поэмы “Девятьсот тринадцатый год”, где Блоку было отведено первое место - как самому замечательному поэтическому выразителю своей эпохи» [Жирмунский 1977, 335].
Сопоставление двух точек зрения В.М. Жирмунского, который в поздних работах находил сходство художественных систем Блока и Ахматовой, тогда как в ранних статьях разводил двух поэтов, имеет для данного исследования особое принципиальное значение. Автор исходит, как было отмечено выше, из того, что нельзя ставить знак тождества между манифестар-ным уровнем отражения литературной ситуации того или иного времени, конкретно, 1910-х гг, и уровнем поэтики. Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов первый уровень - он чрезвычайно важен для воссоздания исторической картины, важен для такой дисциплины в литературоведении, как история литературы, но он непременно должен быть «проверен» анализом стилевого состояния эпохи, которое можно осуществить с помощью другой дисциплины в литературоведении - поэтики.
Вернемся, однако, к «бытованию» идеи «преодоления символизма» в литературоведении. Хотя сам Жирмунский «откорректировал» собственную концепцию «преодоления символизма», И.П. Смирнов в 1977 г. подчеркивал: «... его модель “преодоления” символизма не исчерпывает своеобразия поэтической ситуации 1910-х гг». Любопытно, однако, следующее суждение исследователя: «Настаивая на расподоблении структурных принципов акмеизма и символизма, В.М. Жирмунский был склонен, по-видимому, к парадоксальному взгляду на русский футуризм как на прямое продолжение (а не “преодоление”) символической поэтики» [Смирнов 1977, 11]. Смирнов опирается на сопоставление у Жирмунского в работе «Поэтика Александра Блока» «пожара сердца» у Маяковского с сердцем, «сгорающем на костре», у Блока [Жирмунский 1977, 216].
Взаимоотрицающие концепции «преодоления символизма» раннего Жирмунского и раннего Эйхенбаума Смирнов связывал с «исторической ограниченностью взгляда» и делал резонный вывод: «Семантический переворот отрывает одну систему от другой, противопоставляя их. Но не с меньшим правом можно заявить, что между циклами не бывает абсолютного зияния, что скачок плавен, что сдвиг постепенен» [Смирнов 1977, 25]. Симптоматично, что в своей более поздней книге И.П. Смирнов к главе «Символизм и авангард» поместил подзаголовок: «Элементы постсимволизма в символизме» [Смирнов 1994].
Жирмунский, как уже указывалось выше, называл поколение поэтов 1910-х гг. «.. .в большей или меньшей степени преодолевшими символизм. По отношению к традиции воспитавшей их эпохи для молодых поэтов характерна двойственность: словесные завоевания символизма сохраняются, культивируются и видоизменяются для передачи нового душевного настроения, зато душевное настроение, породившее, породившее эти завоевания, отбрасываются как надоевшее, утомительное и ненужное» [Жирмунский 1977, 216].
Осмысляя «журнальную науку» символистов (Андрей Белый, В. Брюсов, Вяч. Иванов и др.) и особенно книгу Андрея Белого «Символизм», Б.М. Эйхенбаум в статье 1926 г. «Теория “формального метода”» писал почти в таких же словах о двойственном отношении к литературоведению символизма: с одной стороны, воздавал должное, а с другой стороны, настаивал: «встреча двух поколений» (на самом деле: сшибка, столкновение) - символистов и постсимволистов не только в искусстве, но и в науке - «определилась не по линии академической науки, а по линии этой журнальной науки - по линии теории символистов и методов импрессионистической критики» [Эйхенбаум 1987, 378-379]. С дистанции времени Эйхенбаум так передает притяжение/отталкивание теорий символистов и формалистов: «Мы вступили в борьбу с символистами, чтобы вырвать из их рук поэтику и, освободив ее от связи с их субъективными эстетическими и философскими теориями, вернуть ее на путь научного исследования фактов. Воспитанные на их работах, мы с тем большей ясностью видели их ошибки» [Эйхенбаум 1987, 379].
В оценке поэзии символизма Жирмунский ровно на десятилетие раньше в сходном ключе описывает «наследство», от которого акмеисты отказались: «Кажется, поэты устали от погружения в последние глубины души, от ежедневного восхождения на Голгофу мистицизм <.. > Для молодых поэтов, преодолевших символизм, всего более знаменательно постепенное обеднение эмоционального, лирического элемента» [Жирмунский 1977, 109]. А слова Эйхенбаума о журнальной науке символистов будто выросли из Жирмунского. При всей нередкой полемике двух ученых друг с другом.
Теоретическое наследие русских символистов оказало решающее влияние не только на становление формализма в России, но на формирование представления поэтики как науки у Жирмунского. Если статью «Преодолевшие символизм» можно назвать манифестом акмеизма, то «Задачи поэтики» не менее ярким манифестом нового литературоведения 1920-х гг.
Русские символисты оказали влияние уже на ранние работы Жирмунского, в том числе на его первую книгу «Немецкий романтизм и современная мистика» (1914). Д.С. Мережковский, В .Я. Брюсов, А. Белый, Вяч. Иванов и др. большое внимание уделяли мировой культуре, в том числе европейскому романтизму. Можно говорить о воздействии символистов, которые рассматривали свое искусство в широком контексте мировой культуры, на концепцию немецкого романтизма Жирмунского. Это позволяет увидеть новые аспекты в изучении в России немецкого романтизма. Исключительный интерес русских символистов, особенно младших, к мистике предопределил внимание Жирмунского к «современной мистике», что отразилось во второй части названия указанной книги. Правда, уже во второй своей книге «Религиозное отречение в истории романтизма» (1919) Жирмунский в русле отталкивания от символизма обозначил отстранение от религиозного начала. Это связано с отказом формалистов от мистики русского символизма. Особняком стоит изучение полемики русских символистов с Жирмунским о Гете. Речь идет об архивных материалах из фонда одного из самых верных учеников Брюсова С.М. Соловьева (РО РГБ). Итак, статья Жирмунского «Преодолевшие символизм», как отмечалось выше, академический манифест акмеизма, лишь на первый взгляд отражает решительный уход от наследия символизма. Однако в ней напрямую указывается, что влияние символизма на акмеистов до конца еще оставалось. А в самой работе, в ее методах явственно обнаруживается воздействие теоретических идей символистов-литературоведов. В первую очередь речь идет о приемах исследования. Символисты одни из первых отработали оптику изучения текущей, современной литературы. Это отразилось в их статьях о литературном процессе. Во многом к Брюсову восходит понимание Жирмунским неоклассического искусства, однако Жирмунский существенно переосмысляет символизм, в том числе Брюсова, не как продолжение классической традиции, а романтизм («Валерий Брюсов и наследие Пушкина»), В начале этой работы он выдвигает на первый план историческую и теоретическую поэтику, у истоков которой стояли русские символисты. Прямая отсылка к ним дана в начале работы Жирмунского 1919 г. «Задачи поэтики». Можно подтвердить влияние символистов на понимание поэтики как науки у Жирмунского. В большей степени, чем формалисты, ученый в полемике с ними тяготел к синтетическому литературоведению русских символистов. Важно также зафиксировать влияния стиховедения русских символистов (Белый, Брюсов и др.) на работы Жирмунского «Композиция лирических произведений (1921), «Рифма. Ее история и теория» (1923), «Введение в метрику: (Теория сти-

ха)» (1925), «Мелодика стиха (по поводу книги Б.М. Эйхенбаума “Мелодика стиха”)» (1922). Это существенно обогащает наше представление о состоянии теории литературы 1920-х гг. Возврат не только к идеям символистов, но и к их литературоведческому наследию отразились в работах позднего Жирмунского.
Список литературы Концепция "преодоления символизма" и ее отражение в оценке В.М. Жирмунским литературоведческого наследия русских символистов
- Венгеров С.А. Основные черты новейшей русской литературы. 2-е изд. СПб., 1909. С. 39-88.
- Венгеров С. А. Этапы неоромантического движения. Статья первая // Русская литература XX века (1890-1910). Т. 1. Кн. 1. М., 1914. С. 2-38.
- Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
- Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания. М., 1989.
- Смирнов И.П. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.
- Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., 1977.