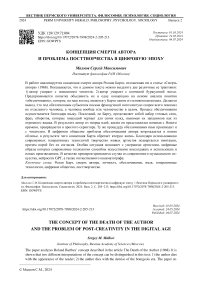Концепция смерти автора и проблема посттворчества в цифровую эпоху
Автор: Малков С.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия творчества в становлении языка культуры (тематический выпуск)
Статья в выпуске: 2 (58), 2024 года.
Бесплатный доступ
В работе анализируется концепция смерти автора Ролана Барта, изложенная им в статье «Смерть автора» (1968). Показывается, что в данном тексте можно выделить две различные ее трактовки: 1) автор умирает с появлением читателя; 2) автор умирает с кончиной буржуазной эпохи. Предпринимается попытка объединить их в одну концепцию на основе анализа понятия «обезличивание», которое, на наш взгляд, является у Барта одним из основополагающих. Делается вывод, что под обезличенным субъектом письма французский интеллектуал скорее всего понимал не отдельного человека, а человека вообще или человечество в целом. Процесс обезличивания осуществляется благодаря языку. Последний, по Барту, представляет собой набор готовых слов, фраз, оборотов, которые пишущий черпает для своих нужд, вынимая их запасников как из огромного ящика. В результате автор из творца идей, каким он представлялся начиная с Нового времени, превращается в простого скриптора. Ту же процедуру обезличивания язык производит и с читателем. В цифровом обществе проблема обезличивания автора возрождается в новом обличье, в результате чего концепция Барта обретает вторую жизнь. Благодаря использованию современных генеративных технологий творчество живых артистов подвергается имитации, причем порой без их согласия. Особая ситуация возникает с умершими артистами, цифровые образы которых современные технологии способны искусственно воссоздавать и использовать в новых произведениях. В качестве примеров приводятся случаи из современного музыкального искусства, нейросети GPT, а также отечественного кинематографа.
Ролан барт, смерть автора, личность, обезличивание, язык, генеративные технологии, цифровое общество, посттворчество
Короткий адрес: https://sciup.org/147244134
IDR: 147244134 | УДК: 128/129:7]:004 | DOI: 10.17072/2078-7898/2024-2-205-213
Текст научной статьи Концепция смерти автора и проблема посттворчества в цифровую эпоху
Малков С.М. Концепция смерти автора и проблема посттворчества в цифровую эпоху // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2024. Вып. 2. С. 205–213.
Accepted: 24.05.2024
Концепция смерти автора входит в состав триединого учения, наряду с концепциями смерти Бога и смерти человека. При этом она также обладает относительно самостоятельным характером. Как своеобразное завершение указанной триады она возникла в конце 1960-х гг. во Франции в трудах таких постструктуралистов, как Ролан Барт и, чуть позднее, Мишель Фуко. Барт изложил ее основные положения в статье, опубликованной в журнале Manteia, которая так и называется «Смерть автора» («La morte de L’auteur», 1968), а Фуко — в своем докладе «Что такое автор?» («Qu’est-ce qu’un auteur?»), прочитанном в Collèges de France в феврале 1969 г. Причем последний прорисовывает контуры особой программы исследований, пытаясь ответить на вопрос о том, что же остается на месте умершего автора? «Конечно же, — пишет он, — недостаточно просто повторять, что автор исчез. Точно так же, недостаточно без конца повторять, что Бог и человек умерли одной смертью. То, что действительно следовало бы сделать, так это определить пространство, которое вследствие исчезновения автора оказывается пустым, окинуть взглядом распределение лакун и разломов и выследить те свободные места и функции, которые этим исчезновением обнаруживаются» [Фуко М., 1996, с. 18]. Мы полагаем, что каж- дая эпоха может по-своему отвечать на этот вопрос, по-особому понимать, что представляет собой это опустевшее пространство. В результате концепция смерти автора будет трансформироваться от эпохи к эпохе, меняться в зависимости от обусловивших ее исторических реалий, обретая новые, иногда крайне неожиданные смыслы и интерпретации. А поскольку, как полагал еще Аристотель, природа не терпит пустоты, то в этом пространстве будут периодически возникать и исчезать довольно функциональные «новообразования», типа постбога в виде искусственного интеллекта, постчеловека в виде киборга1 и поставтора в виде нейросети ChatGPT и других цифровых генеративных технологий. Такие трансформации не могут не привлечь внимание философа, интересующегося проблемами творчества в цифровую эпоху.
* * *
Прежде чем перейти к современной проблематике, попытаемся реконструировать в общих чертах концепцию смерти автора, изложенную Роланом Бартом в 1968 г., вычленив основные ее положения2. Нельзя сказать, что эта концепция является отточенной во всех деталях, скорее, она напоминает схематично начертанный эскиз и ограничивается исключительно рамками литературоведения и, отчасти, лингвистики.
Приводя в самом начале статьи цитату из новеллы Бальзака «Сарразин», где идет речь о переодетом женщиной кастрате, Барт задается вопросом: «Кто говорит так? Может быть, герой новеллы, старающийся не замечать под обличьем женщины кастрата? Или Бальзак-индивид, рассуждающий о женщине на основании своего личного опыта? Или Бальзак-писатель, исповедующий литературные представления о женской натуре? Или же это общечеловеческая мудрость? А может быть, романтическая психология? Узнать это нам никогда не удастся, по той причине, что в письме как раз и уничтожается всякое понятие о голосе, об источнике» [Барт Р., 1989, с. 384]. Это уничтожение голоса Барт называет устранением автора , в результате чего «совершенно напрасным становятся и всякие притязания на “расшифровку” текста. Присвоить тексту Автора — это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо» [Барт Р., 1989, с. 389], или, как мы сказали бы сегодня, — превратить письмо как проект (как акт) в нечто свершившееся (в факт).
По Барту, со смертью автора исчезает и авторское содержание текста, поскольку ответить на перечисленные выше будоражащие ум вопросы уже некому, ведь перед нашими глазами остались лишь слова, фразы, письмо, но не их создатель Бальзак. Более того, сразу после написания произведение начинает жить собственной жизнью, генерируя свое содержание в процессе соприкосновения с читателем. В результате ряд литературоведов все чаще приходят к выводу, что мысли, рожденные в голове писателя, не бессмертны. Срок их жизни очень короток: они умирают в тот самый момент, ко- гда их запись завершается. В этот момент текст навсегда уходит от породившего его автора.
Подход Барта можно охарактеризовать как антиэссенциалистский: существование текста предшествует его сущности. «Расшифровка» авторского текста заменяется его не знающей границ и запретов интерпретацией. Ближе к концу статьи Барт возвращается к упомянутой цитате из Бальзака и высказывает мысль о том, что со смертью автора уничтожение голоса и источника фразы происходит не окончательно: «Если у нее [бальзаковской фразы] есть источник и голос, то не в письме, а в чтении. <…> Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении…»; и далее: «…рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора» [Барт Р., 1989, с. 390–391]. Такой подход прокладывает дорогу постмодернизму в литературе и искусстве: в силу смерти автора текст оказывается бессодержательным, в результате чего читатель вынужден наполнять его собственным смыслом, вдыхая в него собственную жизнь. Он противостоит другому, доминирующему в современном отечественном литературоведении подходу, согласно которому авторское содержание в произведении существует, но его границы нечетки и изменчивы. Этот подход основывается на методологическом принципе примата замысла автора над мыслью исследователя. Его сторонником можно, в частности, назвать известного филолога, достоеведа Т.А. Касаткину. В России идеи Барта пустили корни, причем они устремились далеко за пределы литературоведения, в частности послужив теоретической основой для современной театральной режиссуры. Т.В. Ковалевская в рецензии на одну из последних монографий Т.А. Касаткиной фиксирует широкое распространение концепции смерти автора в гуманитаристике: «Уже само предположение о наличии в тексте фиксированного смысла, который хотя бы теоретически можно понять до конца, является революционным для нынешней гуманитарной науки, где смыслопорождение — задача человека, воспринимающего произведение искусства или науки, и “умерший” автор не имеет права требовать от читателя нахождения определенного смысла в своих текстах (“Смысл произведения порождается зрителем”, — объяснил автору рецензии известный специалист по современному искусству, стоя перед картинами Новой Третьяковки; честно мыслящий человек вслед за таким утверждением должен задаться вопросом о том, зачем тогда нужны науки об искусстве, а в пределе — зачем вообще нужно искусство, потому что для такого порождения смыслов нужен только солипсистический субъект, который может быть закуклен в себе и порождать все смыслы изнутри себя для собственного потребления, <…> потому что в такой системе невозможна сама передача смыслов; но, по понятным и далеким от искусства и науки причинам, такое логическое завершение мысли никогда не будет сделано)» [Ковалевская Т.В., 2023, с. 248–249].
* * *
Однако у Барта в той же статье проглядывает и иная — идеологизированная — трактовка идеи смерти автора, коррелирующая с его гражданской позицией неприятия буржуазного общества и буржуазной культуры в целом, критиком которых он выступал, а также с известными парижскими событиями 1968 года. В этой трактовке текстом для него является не только литературное произведение, но и вообще весь мир, теряющий в глазах интеллектуала свой окончательный (читай — буржуазный) смысл. Он пишет: «…литература <…>, отказываясь признавать за текстом ( и за всем миром как текстом (курсив наш. — С.М. )) какую-либо “тайну”, то есть окончательный смысл, открывает свободу контртеологической, революционной по сути своей деятельности, так как не останавливать течение смысла — значит в конечном счете отвергнуть самого бога и все его ипостаси — рациональный порядок, науку, закон» [Барт Р., 1989, с. 390]. Идея смерти автора-бога логически подводит нас к необходимости отвергнуть далее и самого Бога, а вслед за ним и его незыблемое творение — буржуазное общество с установленными и освященными на века божественными порядками, что и попытались осуществить французские студенты в год выхода в свет рассматриваемой нами статьи.
В чем же заключается эта антибуржуазная трактовка концепции смерти автора? Согласно Барту, автор существовал, но не всегда. Он зародился лишь в Новое время (хотя, наверное, 208
лучше было бы сказать — в эпоху Ренессанса, поскольку исторически первое буржуазное общество возникло в ряде итальянских городов) и связан с открытием феномена человеческой личности и достоинства индивида, иными словами, — отдельного человека, который начал ощущать себя творцом в литературе и искусстве. До этого он таковым себя не чувствовал, с первобытного общества занимаясь повествованием ради повествования, рассказом ради самого рассказа, «а не ради прямого воздействия на действительность» [Барт Р., 1989, с. 384]. Именно такими, по мысли французского интеллектуала, были шаманы и сказители далекого прошлого. Однако в Новое время ситуация в корне изменилась: средневековый Бог — абстрактный, единый и неделимый — конкретизировался и размножился, превратившись в автора, который заодно приватизировал и божественный голос. Сначала в эпоху Ренессанса статусом автора были наделены античные писатели, которым в буквальном смысле стали поклоняться (вспомним, к примеру, Марсилио Фичино, обожествлявшего Платона и переводившего на латынь его труды), а чуть позднее — и современные. В дальнейшем в литературоведении появляются своеобразные «жития авторов» — исследования их жизни и творчества, на страницах которых безраздельно царит фигура писателя-творца, «его личность, история его жизни, его вкусы и страсти» [Барт Р., 1989, с. 385]. Критика, в довершение процесса, стала искать объяснение любого произведения и, соответственно, усматривать «тайну» творения исключительно в создавшем его человеке, т.е. так, как раньше теологи объясняли все Божьим замыслом. Сейчас и такой подход, и сам автор заканчивают свое существование, умирая вместе с породившей его буржуазной эпохой. «Закат Европы» в конце концов приводит к закату автора. Предвестниками умирания выступили во французской литературе такие ее деятели, как Малларме, Валери и Пруст, которые поставили во главу угла своих произведений не содержание, а язык. Их индивидуальность стала проявляться в стиле письма. В результате установка что писать сменилась на как писать. Смерть автора, по Барту, означает растворение его как индивида в письме как некоем обезличенном общем акте, превращение его из «гения», говорящего собственным голосом, в скриптора, воспроизводящего обезличенный текст. Такой текст, в свою очередь, порождает своего обезличенного буржуазного потребителя — чтеца.
* * *
Теперь зададимся вопросом: как можно совместить две указанные, несколько различающиеся трактовки концепции смерти автора, которые мы встречаем у Барта? Когда все-таки умирает автор — с появлением читателя или с кончиной буржуазной эпохи? Поиск ответа, на наш взгляд, следует начинать с рассмотрения различных трактовок понятия «обезличенное», которым пользуется Барт. Он не склонен понимать обезличенное письмо и обезличенного читателя в привычном нам советском коллективистском духе. Настрой создателя концепции смерти автора на обезличенность не бросает его в противоположную, но тоже эссенциалист-скую по сути крайность, не приводит к воспеванию совместного труда творцов-единомышленников, живущих в социалистическом обществе, преодолевших чувство отчуждения от самих себя и несущих миру в своем коллективном творчестве новую, единственно верную идеологию вместо ложной старой. Барт далек и от мысли о необходимости создания на развалинах капитализма общества новой, более передовой коммунистической формации. Мы полагаем, что интенции французского интеллектуала были иные, гораздо более скромные, заставлявшие его эволюционировать в сторону идей экзистенциалистского и анархистского толка. Автор и читатель растворяются у него не в коллективе единомышленников, а в чем-то другом. Мыслитель, скорее всего, считал автора как порождения эпохи Нового времени некоей кажимостью, иллюзией, своеобразным миражом. И люди поверили в этот мираж, и верят в него до сих пор. Однако если попытаться скинуть буржуазное по своей сути покрывало майя с современного Барту общества, то оно предстанет перед нами не как совокупность индивидов, а как человечество вообще. И тогда выяснится, что авторами текстов являются вовсе не отдельные люди, — не Бальзак, не Гюго и не Стендаль, — а общество в целом как единый и единственный субъект письма, породивший все, что было создано за долгую историю существования человеческого рода. Имен- но такая трактовка обезличенности, на наш взгляд, наиболее близка мысли Барта, хотя прямо он ее не артикулирует.
Истоки письма как обезличенного социального действа уходят в глубь веков, и продолжается оно до сих пор. Это письмо длится как бесконечный процесс. У него отсутствует какая-либо собственная цель, а значит и смысл. Такое письмо по сути своей перформативно, т.е. совершается само по себе и существует исключительно ради самого себя. Сейчас мы бы, скорее всего, назвали этот процесс своеобразной социальной графоманией. Социальное письмо по своей природе нелинейно и диалогично. Оно разворачивается в многомерном пространстве , в нем «сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников» [Барт Р., 1989, с. 388]. Поэтому его следует распутывать, как клубок ниток, а не расшифровывать, как некое тайное послание авторского голоса миру. Мы полагаем, что автора по Барту замещает своеобразный обезличенный субъект, по своим характеристикам очень похожий на трансцендентальный, который к тому же постоянно и бесцельно эволюционирует. И имя ему — человек вообще , или человечество.
Однако, как мы уже отмечали, отдельные читатели наделяют письмо собственным содержанием. Поэтому следует признать, что наряду с ними существует и обезличенный читатель — «человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто , сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст» [Барт Р., 1989, с. 390]. В результате чтение также оказывается обезличенным процессом, идущим рука об руку с письмом и не имеющим собственной цели и смысла. Субъектом чтения, как и письма, также приходится признать человека вообще, т.е. человечество.
Но как именно совершается процедура обезличивания? Какова та среда, которая растворяет в себе, социализирует личность писателя? Таковой, по Барту, является язык. Он представляет собой набор готовых слов, фраз, оборотов, которые пишущий черпает для своих нужд, вынимая их оттуда, как из огромного ящика. «Скриптор, пришедший на смену автору, несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки» [Барт Р., 1989, с. 388]. Такое же обезличивание происходит и с читателем, который пользуется языком аналогичным образом. В этом плане язык есть нечто предзадан-ное, существующее до и вне писателя и читателя. И Тургенева, и Толстого, и Достоевского, несмотря на все разнообразие их воззрений, если рассматривать как обезличенных скрипто-ров, объединяет то, что писали они на одном, русском языке — языке своих читателей, который принадлежит всем. Они пользовались одними и теми же словами и даже фразами, черпая их из необъятной сокровищницы «великого и могучего».
Однако возникает закономерный вопрос: если письмо, скажем, того же Достоевского, обезличивается языком, то возможно ли сегодня, после смерти Федора Михайловича, продолжить генерацию его текстов, используя язык как готовый к работе ящик-словарь? Современное цифровое общество отвечает на него утвердительно. Концепция смерти автора, следуя процитированной выше мысли Фуко, обретает ныне новое звучание. Отделившись от своего почившего создателя Ролана Барта, она продолжает жить собственной жизнью.
* * *
В цифровом обществе проблема обезличивания автора текста вообще и интернет-текста в частности возрождается в новом обличье. Рассматривая эту тему, мы коснемся только невербальных текстов, характерных в первую очередь для музыкального искусства, но это легко распространить и на другие виды творческой деятельности — живопись, кино, театр и т.д.
Возможность продолжения написания новых музыкальных текстов после смерти автора связана с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых генеративных технологий. Причем сегодня речь идет уже не об авторах-композиторах — Генделе, Вивальди, Бахе и т.д., — за которых сгенерировать музыку в состоянии даже не особо продвинутый ИИ, а об авторах-исполнителях, причем даже тех, которые живы.
Так, в апреле 2023 г. вышла в свет на стриминговых интернет-сервисах песня «Heart on my Sleeve», которая позднее была представлена на соискание премии Грэмми, пройдя предварительный отбор. Однако затем она была признана не соответствующей условиям конкурса, поскольку, как выяснилось, не была спета голосами тех двух певцов, которые были в ней заявлены, — Дрейка и The Weeknd (Эйбела Мак-ко́нена Те́сфайе). На самом деле это были образы их голосов, созданные с помощью программного обеспечения ИИ, натренированного на существующих музыкальных записях данных артистов. Выяснилось это в результате судебного иска, который подала компания Universal Music Group, выпускающая музыку этих двух певцов. В том же месяце Universal Music Group попросила Apple, Spotify и другие стриминговые сервисы удалять музыку, созданную ИИ.
Спустя почти год, Теннесси стал первым штатом США, который ввел в действие закон о защите голоса, образа и подобия для своих жителей от злоупотреблений ИИ. Он получил название «Закон Элвиса» («Elvis Act») в честь легендарного певца Элвиса Пресли и призван защищать от имени государства создателей музыки, вводя в действие юридические способы защиты их голоса. Закон был подписан губернатором Теннесси Биллом Ли 21 марта 2024 г. как реакция на появление высококачественных подделок и несанкционированное использование голосов и даже визуальных подобий артистов, созданных благодаря достижениям ИИ.
В начале апреля 2024 г. американская некоммерческая организация «Artist Rights Alliance» («Альянс за права артистов»), защищающая права музыкантов, поэтов-песенников и исполнителей, распространила открытое письмо против неэтичного использования ИИ в музыке, под которым поставили свои подписи более двухсот музыкальных исполнителей. В нем содержится призыв «к разработчикам ИИ, технологическим компаниям, платформам и сервисам цифровой музыки прекратить использование искусственного интеллекта для ущемления и девальвации прав исполнителей-людей» [Gibbs A., 2024]. Авторы письма призвали технологические компании, разработчиков и цифровые музыкальные сервисы пообещать не разрабатывать и не использовать генеративные технологии, которые ущемляют и заменяют артистов-людей.
Не секрет, что любой звуковой ряд, в том числе голоса артистов, можно оцифровывать, затем сэмплировать, т.е. разбивать на мелкие фрагменты, для последующей их сборки и вставки в новые музыкальные произведения. Не напоминают ли эти сэмплы обычные слова того самого языка-ящика Барта, из которого скриптор черпает материал для продолжения своего обезличенного письма?
Нельзя не согласиться, что использование голосов живых артистов в звукозаписывающей индустрии без их согласия вызывает множество вопросов этического характера. Кроме того, распространение такой продукции способствует снижению доходов исполнителей. Однако как быть, если такая практика осуществляется звукозаписывающей фирмой с согласия певца? Например, в силу возрастных особенностей вокалист уже не может как прежде брать высокие ноты и не имеет ничего против того, чтобы взять их из предыдущих своих записей и вставить в новую? Что делать, если певец скончался, а его нынешние наследники-правообладатели не возражают против дальнейшего использования цифрового образа его голоса в коммерческих целях? Как поступить, если при таких же обстоятельствах мы имеем дело не с исполнителем легких эстрадных песен, а с представителем высокого искусства, например с оперным певцом?
Современные технологии позволяют оцифровывать не только новые, но и старые записи, сэмплировать их, осуществлять ремастеринг и на этой основе генерировать музыкальные произведения, не существовавшие в тот исторический период. Насколько будет этично, если, скажем, новые патриотические песни, прославляющие ратные подвиги участников СВО, будут исполнены не современными малоизвестными артистами, а цифровыми образами выдающихся голосов советского прошлого Клавдии Шульженко и Марка Бернеса?
Как известно, сохранилось огромное количество аудиозаписей прославленного итальянского тенора Лучано Паваротти. Однако ни один певец не в состоянии исполнить все, что было до этого написано композиторами. В связи с этим возникает вопрос: насколько этично использовать образ его голоса для исполнения тех опер, в которых он никогда не был задействован? Как быть, если в ряде таких опер пе- вец при жизни по тем или иным причинам сам отказывался петь?
Наконец, есть еще один тревожный момент. Уже давно замечено, что нынешнее количество вокалистов на земле в каком-то смысле избыточно. Зачем нужны оперному миру условные миллион теноров, если вполне достаточно и троих, но самых лучших, — Паваротти, Доминго и Хосе Каррераса? Не случится ли так, что голосов этих певцов окажется достаточно и для всех будущих поколений? Не превратится ли в таком случае профессия певца в вымирающую?
Наблюдается также практика использования в коммерческих целях голосов, близких по звучанию голосам известных артистов. Так, 13 мая 2024 г. компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, являющаяся разработчиком ChatGPT, представила новую версию генеративного искусственного интеллекта GPT-4o3. В отличие от прошлых версий, разработчики обучили новую модель сквозному анализу текста, изображения и аудио. В ней чат-бот общается с потенциальным пользователем голосом, который «поразительно напоминает голос персонажа, которого Скарлетт Йоханссон играет в фильме “Она”, где мужчина завязывает отношения с опытной ассистенткой, наделенной искусственным интеллектом» [Robison K., 2024]. По словам Йоханссон, в сентябре 2023 г. представитель компании «обратился к ней с предложением разрешить использовать голос актрисы для нового голосового помощника ChatGPT. Однако та отказалась “по личным причинам”. За несколько дней до презентации новой версии чат-бота гендиректор компании вновь связался с актрисой и призвал изменить решение, но та снова отказалась. На презентации компания представила пять голосов, и один из них — Sky — был “устрашающе похож” на Йоханссон. “В то время как мы все боремся с дипфейками и защищаем свою работу, свою индивидуальность, я считаю, что эти вопросы заслуживают абсолютной ясности”, — сказала актриса. В OpenAI 19 мая заявили, что голоса помощника принадлежат разным актерам озвучки, но отказались разглашать имена, “чтобы защитить их конфиденциальность”. На следующий день компания написала в Х о планах приостановить использование голоса Sky “из уважения к миссис Йоханссон”» [Шошина С., 2024].
Положение дел осложняется также тем, что современные генеративные технологии могут использоваться для создания не только нового аудио, но и видеоряда. Так, 30 мая 2024 г. у нас в стране выходит в кинопрокат художественный фильм «Манюня: Приключения в Москве» с участием нарисованного с помощью нейросети цифрового образа умершего известного советского артиста Юрия Никулина. Его образ, в строгом соответствии с концепцией Барта, отделяется от своего почившего носителя и начинает жить собственной жизнью, превратившись в невербальный знак (а сам артист — в обезличенного субъекта ).
Сегодня мы не можем с уверенностью сказать, насколько такая практика «воскресения» мертвецов окажется в будущем востребованной. Однако не исключено, что мы вступаем в новую эпоху посттворчества, когда смерть человека перестает быть существенной помехой для продолжения его творческого пути. При этом неизвестно, как все это скажется на непосредственном потребителе данного контента — слушателе и зрителе. Не приведет ли это к усилению и без того набирающего обороты культурного упадка жителей нашей страны и планеты в целом? Пока подобные вопросы остаются не только без ответа, но даже без обсуждения.
Список литературы Концепция смерти автора и проблема посттворчества в цифровую эпоху
- Барт Р. Смерть автора / пер. с фр. С.Н. Зенкина // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / сост., общ. ред. Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 384–391.
- Береснева Н.И., Кокарева Е.А. Эволюция идеи «Смерть автора» // Филологические заметки. 2012. Т. 10, № 1. С. 3–10.
- Брайдотти Р. Постчеловек / пер. с англ. Д. Хамис. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2021. 408 с.
- Ковалевская Т.В. О человеке, его личности и тайне и о ее разгадках // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2023. № 3(23). С. 247–255. DOI: https://doi.org/10.22455/26190311-2023-3-247-255
- Колесников С.А. Автор в жизни и в радости // Человек. 2018. № 5. С. 140–154. DOI: https://doi.org/10.31857/s023620070000730-0
- Колесников С.А. Взгляни на дом свой, автор! // Человек. 2017. № 4. С. 159–172.
- Колесников С.А. Так похоронен ли автор? // Человек. 2016. № 4. С. 132–145.
- Лекторский В.А. Умер ли человек? // Человек. 2004. № 4. С. 10–16.
- Малков С.М. Автор как культурноисторический субъект // Человек. 2011. № 4. С. 146–157.
- Спешилова Е.И. Бессмертие автора // Человек.RU. 2016. № 11. С. 118–125.
- Усов О.О. Федоров В.А., Федорова Н.А., Головешкина Н.В. «Смерть автора» в контексте современной журналистики // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2020. № 4(48). С. 197–201.
- Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / пер. с фр. С.В. Табачниковой. М.: Касталь, 1996. С. 7–46.
- Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х / пер. с англ. А.В. Гараджа. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 128 с.
- Шошина С. Скарлетт Йоханссон раскритиковала OpenAI из-за голоса чат-бота // РБК. 2024. 21 мая. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/ 664c29689a794743d712fb65 (дата обращения: 28.04.2024).
- Gibbs A. 200 musical artists sign an open letter against unethical AI in music, what to know // The Tennessean. 2024. Apr. 2. URL: https://www.tennessean.com/story/entertainment/mus ic/2024/04/02/200-musical-artists-sign-an-openletter-against-harmful-ai-in-music/73179130007/ (accessed: 28.04.2024). Robison K. ChatGPT will be able to talk to you like Scarlett Johansson in Her // The Verge. 2024. May 13. URL: https://www.theverge.com/2024/ 5/13/24155652/chatgpt-voice-mode-gpt4o-upgrades (accessed: 28.04.2024).