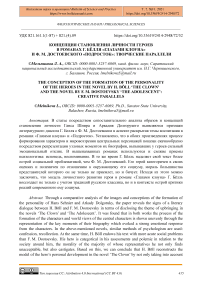Концепция становления личности героев в романах Г. Бёлля «Глазами клоуна» и Ф.М. Достоевского «Подросток»: творческие параллели
Автор: Мельникова Л. А.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 11 т.7, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье посредством сопоставительного анализа образов и концепций становления личности Ганса Шнира и Аркадия Долгорукого выявляются признаки литературного диалога Г. Белля с Ф. М. Достоевским в аспекте раскрытия темы воспитания в романах «Глазами клоуна» и «Подросток». Установлено, что в обоих произведениях процесс формирования характеров и мировоззрения центральных персонажей показан скачкообразно посредством репрезентации узловых моментов их биографии, вызывавших у героев сильный эмоциональный отклик. В вышеназванных романах используются и схожие приемы психологизма: исповедь, воспоминание. В то же время Г. Бёлль наделяет свой текст более острой социальной проблематикой, чем Ф. М. Достоевский. Его герой категоричен в своих оценках и полемичен по отношению к окружающему его социуму, мораль большинства представителей которого он не только не приемлет, но и бичует. Исходя из этого можно заключить, что модель личностного развития героя в романе «Глазами клоуна» Г. Бёлль воссоздает не только с учетом традиций русского классика, но и в контексте острой критики реалий современного ему социума.
Г. Бёлль, Ф. М. Достоевский, роман, литературный диалог, концепция становления личности, тема воспитания, Аркадий Долгорукий, Ганс Шнир.
Короткий адрес: https://sciup.org/14121275
IDR: 14121275 | УДК: 821.161.1(1-87) + 821.(4).09 | DOI: 10.33619/2414-2948/72/52
Текст научной статьи Концепция становления личности героев в романах Г. Бёлля «Глазами клоуна» и Ф.М. Достоевского «Подросток»: творческие параллели
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 821.161.1(1-87) + 821.(4).09
Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Г. Бёлль (1917–1985) неоднократно признавал факт влияния Ф. М. Достоевского на процесс формирования его эстетических принципов. На присутствие литературных перекличек на различных уровнях художественных текстов этих двух авторов указывали и исследователи разных лет [10-12; 14].
Называя себя «реалистом в высшем смысле», Ф. М. Достоевский значительное место в своих произведениях отводит описанию и анализу внутреннего мира изображаемых им героев. В романе «Подросток» в центре его внимания оказывается самосознание персонажа, личность которого находится в стадии становления. Русский классик подвергает художественному изучению особенности процесса морально-нравственного взросления Аркадия Долгорукого. В своем романе «Глазами клоуна» (Ansichten eines Clowns) Г. Бёлль также избирает в качестве центрального персонажа, который обладает повышенной склонностью к рефлексии, что отчасти объясняется сферой профессиональной деятельности последнего. Немецкий писатель посредством воссоздания его жизненной канвы показывает, что процесс формирования мировоззрения Ганса Шнира не является до конца завершенным. С помощью использования приема воспоминаний в произведении часто даются отсылки к прошлому данного героя и анализу отдельных эпизодов его биографии, с целью выявления их влияния на становление личности последнего. Попытка писателей воссоздать модель личностного развития героя, присутствующая в романах «Подросток» и «Глазами клоуна», позволяет говорить о присутствии в данных произведениях элементов романа воспитания, одной из характерных черт которого является то, что в основу образа героя кладется динамическое единство становящегося человека [1, с. 196]. Все сказанное выше дает основания для сопоставления поэтик указанных произведений в рамках изучения литературного диалога Г. Бёлля и Ф. М. Достоевского.
В данной статье объектом исследования являются романы Г. Бёлля «Глазами клоуна» и Ф. М. Достоевского «Подросток», предметом — представленные в данных произведениях концепции становления личности центральных персонажей Ганса Шнира и Аркадия Долгорукого.
Цель исследования — посредством развернутого сравнительного анализа образов Ганса Шнира и Аркадия Долгорукого выявить параллели в эстетических принципах Ф. М. Достоевского и Г. Бёлля в плане раскрытия темы воспитания в вышеназванных текстах. В данном аспекте названные произведения в отечественном литературоведении не рассматривались и не сопоставлялись. Это и составит актуальность и новизну нашего исследования.
В основе обоих романов лежит двойной повествовательный принцип. Как справедливо отмечает Т. А. Касаткина, в «Подростке» «на фоне внешней истории , движущей сюжет, развивается и по-настоящему организует роман, его композицию, внутренняя жизнь героя, история его личности » [8, с. 145]. Аналогичным образом выстроено повествование и в романе «Глазами клоуна»: лирическая исповедь центрального персонажа о своей жизни является стержнем, на который нанизывается описание событий, из которых складывается его день по приезде в Бонн.
Процесс развития героя в романе Достоевского показан через его самоощущение, самосознание [3, с. 17]. В романе Шнир также постоянно анализирует свое поведение, комментирует причины как своих собственных поступков, так и поведение окружающих его людей, составляющих немецкий социум, например, Цюпфнера, Зоммервильда, Фредебойля и других.
Оба писателя последовательно прослеживают не только основные этапы жизненного пути Ганса Шнира и Аркадия Долгорукого, но и подвергают изучению с учетом причинноследственных связей сам процесс формирования мировоззрения этих персонажей. Образы Ганса и Аркадия обнаруживают ряд сходств: 1) «говорящая» фамилия, задающая ложный «горизонт ожидания» у окружающих их людей и вызывающая тем самым смятение чувств и у Ганса, и у Аркадия (последний, к примеру сетует: «<…> ничего нет глупее, как называться Долгоруким, не будучи князем <…> глупость я таскаю на себе без вины» [5, с. 220]; герои вынуждены комментировать свою фамилию: Аркадий вынужден оправдываться, пояснять, что он «просто Долгорукий», Ганс дает развернутый комментарий: «некоторое время думали, будто фамилия Шнир происходит от «шноррен», то есть «попрошайничать», но потом было доказано, что она произведена от слова «шнайдер», или «шнидер», то есть «портной», а не от слова «попрошайка»» [2, с. 540]; 2) сложные взаимоотношения с семьей (отец Аркадия Версилов отдает его в детском возрасте на воспитание дворовому человеку, тем самым порождая у сына обиду на него на долгие годы, у Ганса серьезные разногласия с родителями из-за неприятия им жизненной позиции последних).
Повествование в обоих произведениях ведется от 1-го лица. В качестве повествователей выступают центральные персонажи данных произведений — Аркадий и Ганс. Герои сами излагают читателю историю своей жизни.
Аркадий — 20-летний кончивший курс гимназист. Противоречивость личности этого персонажа отчасти вторит неоднозначность его происхождения: «я законнорожденный, хотя я, в высшей степени, незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению» [5, с. 218].
Ганс Шнир также выделяется из своего окружения, но не столько происхождением, сколько профессиональной принадлежностью: «Я – клоун, официальное наименование моей профессии – комический актер, ни к какой церкви не принадлежу <…>, и один из моих номеров так и называется „Приезд и отъезд“» [2, с. 423]. Герой Г. Бёлля не имеет жизнеопределяющей идеи, в отличие от героя Ф. М. Достоевского, его образ жизни более зависим от внешних обстоятельств (количество заказов, взаимоотношения с агентом), процесс обращения с деньгами не наделен для него таким сакральным ореолом, как для Аркадия.
Характеризуя особенности поэтики романа русского классика, исследователи фиксируют тот факт, что в данном произведении «размышления Достоевского о России впервые сосредоточены на проблеме отцовства, ибо герой-подросток видит себя между двумя отцами: по крови, юридически его отторгающим, и по духу, юридически его признающим. Простолюдин наделен благородным именем Долгорукий. Тем самым Достоевский хочет сказать: подлинную знать, знать духа следует искать не в сословии русского дворянства, но среди живых сил народных» [4, с. 173].
Значительную роль в раскрытии образов героев в обоих романах играет мотив «случайного семейства». Аркадий в течение долгого времени из-за внешних факторов был изолирован от своих родителей: «Если я и сказал, что все семейство всегда было в сборе, то кроме меня, разумеется. Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях» [5, с. 228].
Ганс Шнир формально рос в полной семье со своими родными родителями, однако в отношениях с ними у героя изначально не было должного взаимопонимания, а впоследствии и вовсе возник серьезный конфликт, в чем откровенно и признается данный персонаж: «После смерти моей сестры Генриетты родители как родители перестали для меня существовать» [2, с. 431].
Страдая от отсутствия необходимого ему доверительного общения с Версиловым, Аркадий признается в том, что влюбился в придуманный им в воображении образ Андрея Петровича и создал из него фантастический идеал.
Анализируя образ Подростка, исследователи указывают на то, что «отчасти по молодости, отчасти по своему характеру Аркадий часто испытывает резкие перемены чувств, порой весьма парадоксальные и противоречивые <…> и соответственно меняется его поведение по отношению к окружающим» [9, с. 138]. Переменчивость настроения зачастую может быть обусловлена весьма незначительными причинами. Это обстоятельство порой приводит в недоумение и самого персонажа: «Удивительно, как я скор и перевертлив в подобных случаях; песчинки или волоска достаточно, чтобы разогнать хорошее и заменить дурным» [5, с. 313]. Вследствие этой черты характера Аркадий часто бывает дерзок в общении с окружающими.
Ганс Шнир также часто проявляет резкость, так как он нетерпим к лицемерию, напускной набожности во всех формах их проявления, но примечательно то, что «в этой ненависти, справедливой и беспощадной, есть и бессильная ирония над самим собой. Потому что <…> Ганс Шнир думает о том, как расправится со своими врагами, но пощечины получает он сам» [13, с. 23].
Ответной реакцией обоих героев на отчуждение от них близких людей становится их стремление к ярко выраженной индивидуализации своего сознания и поведения. Для Аркадия способом реализации этого намерения становится служение идее стать Ротшильдом, для Ганса – выходца из семьи каменноугольных промышленников — выбор творческой профессии. Став клоуном, Шнир не только бунтует против родителей, но и в определенной степени противопоставляет себя социуму. Подтверждением этому служит его телефонный разговор с Кинкелем, во время которого в ответ на вопрос собеседника о религиозных предпочтениях Шнира (католик/протестант/атеист) Ганс определяет себя следующим образом: «Я — клоун <…>, а в настоящую минуту я даже выше своей репутации» [2, с. 479].
Размышляя о значении подобного самоопределения, исследователи отмечают: «клоун — это значит, что он не принимает всерьез и отвергает все то, что во имя чего живут и к чему стремятся окружающие его люди; это значит также, что в его отрицании есть издевка и над самим собой, над своим бессилием; это значит, наконец, что он артист, художник, человек искусства» [13, с. 23].
Аркадий Долгорукий и Ганс Шнир по-разному осознают свой статус в современных им социумах, различаются они также возрастом и объемом своего жизненного и эмоционального опыта. Но описание процесса становления их личности содержит общие элементы.
В обоих произведениях процесс изменения героев показан сжато. Как справедливо отмечает исследовательница Э. А. Воронина, «у Достоевского нет последовательного, плавного описания становления, нет постепенного перехода от одного явления душевной жизни к другому, нет изображения закономерной очередности процессов, сменяющих друг друга как причина следствие. Дистанция между причиной и следствием необыкновенно сокращена, процесс изменения показан очень сжатым, интенсивным» [3, с. 15]. Герой Ф. М. Достоевского хаотично обращается с воспоминаниями об отдельных моментах своего прошлого, чтобы прояснить для себя эволюцию собственных взглядов. При этом внимание в романе оказывается сосредоточено преимущественно на тех событиях, которые оставили наиболее яркий след в сознании Аркадия. Например, события 15 ноября, когда он после длительного разрыва с Версиловым, целует его руку во время «примирительного» визита последнего и после этого рыдает на своей кровати: «В первый раз заплакал с самого Тушара! Рыданья рвались из меня с такою силою, и я был так счастлив… но что описывать!» [6, с. 13]
В романе Г. Бёлля внутренняя жизнь Ганса показана очень динамично, поскольку события, описанные в произведении, разворачиваются в течение трех с половиной часов: «этот многозначительный факт приближает роман к спектаклю, в котором действие разворачивается непосредственно перед глазами зрителя, в данном случае читателя» [7, с. 139]. Биографизм и хронология как таковые в романе Г. Белля отсутствуют. В произведении изображается всего лишь один день из жизни Ганса Шнира, который состоит из его приезда в Бонн и нескольких телефонных, либо непосредственных разговоров с его друзьями, знакомыми и родственниками. Особо в галерее собеседников Шнира выделен его отец – он единственный, с кем беседует Ганс «вживую». В этом эпизоде Г. Бёлль показывает тесную взаимосвязь прошлого и настоящего своего персонажа. Для того, чтобы осознать себя «сегодняшнего», Ганс также вынужден прибегать в своей исповеди к воспоминаниям. Ввиду небольшого охвата во времени в произведении нет последовательного развернутого описания смены настроений Шнира.
Для описания рефлексии героев Г. Бёлль и Ф. М. Достоевский используют схожие приемы психологизма: воспоминание и исповедь. В романе Г. Бёлля большой психологической емкостью также оказываются наделены жесты героя, что объясняется его спецификой его профессии. Сценичность романа также накладывает заметный отпечаток на способы формирования психологических портретов: «герои романа „высказываются“ не только в монологах и диалогах, но и наиболее убедительно с помощью мимики и телодвижений, молчания и позы» [7, с. 139].
В романе Г. Бёлля Ганс Шнир терпит неудачу как в профессиональной сфере, так и в личной жизни, причем второе обуславливает первое. Уход Мари ввергает его в депрессию и ведет к профессиональной деградации этого персонажа.
Ряд драматических событий задают пессимистическую направленность его восприятия реальности. Душевная боль Ганса, связанная с расставанием с любимой женщиной, дополняется болью физической из-за ушиба, полученного во время падения на сцене в процессе выступления. Отсутствие помощи и должного сострадания усиливают разочарование Шнира и превращают его в рассерженного молодого человека, стремящегося сорвать лицемерные маски благочестия с представителей своего окружения. Герой отказывается от комформистски спокойного поведения и становится яростным обличителем «дефектных» жизненных принципов общественного большинства.
Как отмечают исследователи, «в «Подростке» нет диалектического становления духа. Герой Достоевского изменяется, приобретает новые черты <…> но эти преобразования совершаются не диалектически, но мгновенно, через внезапные «прозрения»: изменение происходит через кризис, скачок, перелом, преобразование совершается через катастрофу [3, с. 17]. В качестве примера из романа «Подросток» можно привести эпизод, в котором Аркадий, находясь в трактире после того, как Крафт отдал ему письмо Столбеева, которое могло помочь Версилову выиграть судебную тяжбу с Сокольскими, и разговора о судьбе письма Ахмаковой к Андроникову, переосмысливает роль Версилова в своей жизни свое отношение к нему: «Это правда, что появление этого человека в жизни моей, то есть на миг, еще в первом детстве, было тем фатальным толчком, с которого началось мое сознание. Не встреться он мне тогда – мой ум, мой склад мыслей, моя судьба, наверно, были бы иные <…> Но ведь оказывается, что этот человек – лишь мечта моя, мечта с детских лет. Это я сам его таким выдумал, а на самом деле оказался другой, упавший столь ниже моей фантазии» [5, с. 288]. В романе «Глазами клоуна» становление личности Ганса Шнира также показано скачкообразно. Перемены в его сознании происходят в результате кризисных событий. Трещина в отношениях с родителями возникает после одобрения ими ухода его сестры Генриетты в войска и убежденности матери в том, что «каждый должен выполнять свой долг, чтобы выгнать жидовствующих янки со священной немецкой земли» [2, с. 432], новость об этом вызывает у Ганса сильную эмоциональную реакцию: «Мне хотелось засмеяться, но я расплакался, швырнул десертный ножик и убежал к себе в комнату. Я испугался и знал, почему испугался, но выразить словами не мог и только со злостью думал о проклятой яблочной кожуре. Я посмотрел на покрытую запакощенным снегом немецкую землю в нашем саду, на Рейн за плакучими ветлами, на Семигорье, и все это показалось мне какой-то идиотской бутафорией <…> Эта забота о „священной немецкой земле“ по меньшей мере забавна, если представить себе, что изрядный куш акций немецкой каменноугольной промышленности уже в течение двух поколений сосредоточен в руках нашей семьи. Семьдесят лет Шниры зарабатывают на земляных работах, которые терзают „священную немецкую землю“, села, леса, замки — все рушится под экскаваторами, как стены Иерихона» [2, с. 433]. Осознание контраста создаваемой благочинной видимости с реальным положением дел, присутствие элементов грустной иронии в данных размышлениях героя являются свидетельством стремления Шнира к демонстрации глубинного взгляда на людей и события. Впоследствии именно эта черта характера сформирует в нем протестное начало, которое будет в дальнейшем во многом определять векторы его общения с другими людьми.
Перечисленные выше особенности поэтики романов «Подросток» и «Глазами клоуна» – акцент на самосознании персонажей, использование схожих приемов психологизма, отсутствие хронологической последовательности в изображении событий в описании процесса развития личности Долгорукого и Шнира, указания на стихийность реакций героев в определенные моменты жизненного пути и их влияние на формирование жизненной позиции в последующие годы — можно рассматривать в качестве творческих параллелей, подтверждающих факт литературного диалога Г. Белля и Ф. М. Достоевского в аспекте раскрытия темы воспитания.
Роман Достоевского «Подросток» продолжает традицию романа воспитания, образуя следующий виток ее развития – раскрывая новую концепцию катастрофического становления личности [3, с. 20]. В романе Г. Бёлля «Глазами клоуна» также изображается процесс катастрофического становления личности Ганса Шнира. Процесс взросления и формирования мировоззрения обоих героев лишен систематичности и последовательности, он хаотичен. Его этапы обусловлены силой душевных переживаний персонажей из-за наиболее значительных событий своей жизни. Образы Ганса Шнира и Аркадия Долгорукого объединяет обостренное переживание чувства собственного одиночества, осознание отсутствия взаимопонимания с близкими людьми. Ганс на некоторое время находит утешение в отношениях с Мари и в самореализации в творческой профессии, Аркадий Долгорукий — в служении идее «стать Ротшильдом» и попытках оказать влияние на судьбы других людей, например Версилова и Ахмаковой.
Ганс Шнир противопоставляет себя социуму, бросает вызов тем элитарным предписаниям и условностям, которые были приняты в его аристократической семье и становится комическим актером. В этом проявляется бунт героя против лицемерия и душевной черствости своих родителей. Протест Шнира в дальнейшем распространится и на представителей других социальных групп. Его взгляд на окружающих отличается беспристрастностью и категоричностью суждений и оценок. Аркадий Долгорукий, также находясь в поисках себя и своего места в этом мире, обретает проницательность и глубину суждений в отношении тех людей, с которыми ему приходится общаться. Однако обличительный пафос в романе Ф. М. Достоевского выражен не столь ярко, как в романе Г. Бёлля. Отчасти это связано с тем, что острота духовного зрения героя-художника в романе «Глазами клоуна» оказывается значительно глубже, нежели в романе «Подросток». Это, в свою очередь, позволяет «униженному и оскорбленному» персонажу Г. Бёлля проявить большую внутреннюю силу и решиться на открытое и прямое обличение современного ему социума. Все это свидетельствует о том, что учет немецким писателем художественного опыта русского классика служит для него одним из важных средств формирования собственной индивидуально-авторской картины мира.
Список литературы Концепция становления личности героев в романах Г. Бёлля «Глазами клоуна» и Ф.М. Достоевского «Подросток»: творческие параллели
- Бахтин М. М. Роман воспитания и его значение в истории реализмам // Собрание сочинений. Т. 3.: Теория романа. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 180 217.
- Белль Г. Глазами клоуна // Избранное. М.: Радуга, 1988. С. 421 580.
- Воронина Э. А. «Подросток» Ф. М. Достоевского как роман воспитания: своеобразие жанровой модели // Вестник Южно Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. 2015. Т. 12. №2. С. 15 21.
- Геригк Х. Ю. Литературное мастерство Достоевского в развитии. От «Записок из Мертвого дома» до «Братьев Карамазовых». СПб., 2016. 320 с.
- Достоевский Ф. М. Подросток // Собрание сочинений в 12 т.: Т. 9. М.: Правда. 1949. С. 217 418.
- Достоевский Ф. М. Подросток // Собрание сочинений в 12 т.: Т. 10. М.: Правда. 1949. С. 5 380.
- Ильина Э. А. «Человек играющий» в романе Г. Бёлля «Глазами клоуна» // Немецкий писатель как философ и художник: учеб. пособие. Чебоксары: Изд во Чуваш. ун та, 2002. С. 135 162.
- Касаткина Т. А. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: «идея» героя и идея автора // Вопросы литературы. 2004. № 1. С. 181 212.
- Мелетинский Е. М. Заметки о творчестве Достоевского. М.: РГГУ, 2001. 190 с.
- Мельникова Л. А. Достоевский и Г. Белль: проблема литературных влияний // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. №1(31). В 2 х ч. Ч. I. С. 94 99.
- Мотылева Т. Д. Достоевский и зарубежные писатели ХХ века // Вопросы литературы. 1971. №5. С. 96 128.
- Пронин В. А. «Сам я просто немец»: Германия глазами Генриха Бёлля // Литературная газета. 2017. №50 (6625).
- Топер П. Генрих Бёлль романист и рассказчик // Белль Г. Избранное: Сборник. М.: Радуга, 1988. С. 5 32.
- Фрадкин И. М. Генрих Бёлль писатель, и, больше чем писатель // Бёлль Г. Собрание сочинений в 5 т.: Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 5 28.