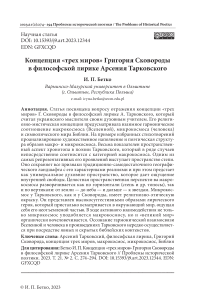Концепция "трех миров" Григория Сковороды в философской лирике Арсения Тарковского
Автор: Бетко И.П.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу отражения концепции «трех миров» Г. Сковороды в философской лирике А. Тарковского, который считал украинского мыслителя своим духовным учителем. Его религиозно-мистическая концепция предусматривала взаимное гармоническое соотношение макрокосмоса (Вселенной), микрокосмоса (человека) и символического мира Библии. На примере избранных стихотворений проанализировано художественное наполнение и поэтическая структура образов макро- и микрокосмоса. Весьма показателен пространственный аспект хронотопа в поэзии Тарковского, который в ряде случаев непосредственно соотносится с категорией макрокосмоса. Одним из самых репрезентативных его проявлений выступает пространство степи. Оно сохраняет все признаки традиционно-самодостаточного географического ландшафта с его характерными реалиями и при этом предстает как универсальное духовное пространство, которое дает ощущение внутренней свободы. Целостная пространственная перспектива макрокосмоса разворачивается как по горизонтали (степь и др. топосы), так и по вертикали: от земли - до неба - и дальше - к звездам. Микрокосмос у Тарковского, как и у Сковороды, имеет религиозно-этическую окраску. Он представлен высокосуггестивными образами лирического героя, который пристально всматривается в окружающий мир, ощущая себя его неотъемлемой частью. В ходе активного взаимодействия не только микрокосмос уподобляется макрокосмосу, но и «великий мир» органически вочеловечивается. Осознание гармонической взаимосвязи Вселенной и человека в произведениях Тарковского нередко осуществляется при посредстве явных и скрытых библейских контекстов.
Арсений тарковский, философская лирика, григорий сковорода, концепция трех миров, макрокосмос, микрокосмос, библия
Короткий адрес: https://sciup.org/147241100
IDR: 147241100 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12344
Текст научной статьи Концепция "трех миров" Григория Сковороды в философской лирике Арсения Тарковского
В творческом наследии Арсения Тарковского (1907–1989) можно выделить весьма необычную по содержанию и форме серию жизни замечательных людей — поэтов, ученых, мыслителей и художников, духовно близких автору, о которых он отозвался с огромным пиететом: «Моя броня и кровная род-ня»1. Им посвящено более трех десятков вдохновенных лирофилософских медитаций, в совокупности составляющих неформальный проблемно-тематический макроцикл2.
В этой плеяде выдающихся деятелей мировой и русской культуры особое место занимает украинский философ-мистик Григорий Варсава Сковорода (1722–1794). Впервые будущий поэт узнал о нем еще ребенком, в возрасте восьми лет, от близкого друга своего отца доктора Афанасия Михалевича (1848–1925), который «был сковородист» и открыл глаза мальчику на самобытную поэзию этого автора3. В «Автобиографических заметках» (1945) поэт вспоминает: «Афанасий Иванович <…> читал мне стихи Григория Сковороды, которые я до сих пор помню: "Всякому городу4 нрав и права…" <…> которые я так люблю и которые так хороши»5.
О той важной роли, которую украинский мыслитель сыграл в духовном становлении русского поэта, свидетельствует Инна Лиснянская (1 928–2014) в повести «Отдельный» (1995–1996):
«Тарковский познакомил меня и с подробностями жизни и поэзии Сковороды, а значит, и с его метафизическим мышлением. Он почитал этого святого странника почти ученическим почитанием, что и чувствуется в его стихах о Сковороде»6. Эти стихи («Григорий Сковорода», «Где целовали степь курганы…») писательница слышала в авторском исполнении. Они датируются 1976 г. и представляют собой хорошо известный и довольно часто цитируемый диптих, в котором воссоздан феноменальный образ украинского Сократа .
Как бы естественно развивая мотив, затронутый в «Автобиографических заметках» в связи с упоминанием одного из самых известных поэтических текстов Сковороды — «Песни 10-й» («Всякому городу нрав и права…») из его рукописной книги «Сад божественных пѣсней, прозябшій из зерн Свя-щеннаго Писанія» (1753–1785), в «сковородинском» диптихе Тарковский ссылается на такие ключевые тексты украинского мыслителя, как «Алфавит Мира» («Разговор, называемый Алфавит, или Букварь Мира», 1775) — один из его центральных философских диалогов, и знаменитую афористическую автоэпитафию: «Мир ловил меня, но не поймал» (1794). При этом он в лаконически емкой поэтической форме осмысливает ментально близкие ему парадигмы творческого наследия Сковороды и согласного с ними образа его жизни.
Показательно также и то, что «сковородинский диптих» был создан вскоре после отмеченных в 1972 г. юбилея — 250-летия со дня рождения мудреца-странника, и в 1974 г. — 180-летней годовщины его смерти. Эти факты закономерно приобретают глубокий символический смысл в целостном контексте творчества поэта, комплексно осмысливавшего философемы воплощения человеческой души, ее бессмертия и «смысла бытия»7 как такового.
Животворящее влияние Сковороды на личность и лирику Тарковского, очевидно, выходит далеко за рамки двух посвященных ему стихотворений. Существенные аспекты этой обширной темы затронуты в специальных исследованиях, в частности, Эулялии Папли (“Liryka Arseniusza Tarkowskiego wobec idei filozoficznych Hrihorija Skoworody i Pierre’a Teilharda de Chardin”, 1990; “Człowiek, natura i kultura w liryce Arsenija Tarkowskiego”, 1994), Маргариты Черненко («Арсений Тарковский и Григорий Сковорода: за птицей-истиной», 2011), Виктора Филимонова («Григорий Сковорода и Арсений Тарковский: о "тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертье косяком"», 2015) и др. (см. также: [Козлова, Скоробогатова, 1992a, 1992b]). Так, Тарковский творчески осмысливал следующие философские воззрения Сковороды: онтологические «идеи вечной материи и циклической изменчивости одушевленной природы», ее «развития и существования в замкнутом кругу, в котором умирающее зерно дает начало новому стеблю, отрицая понимание смерти как разрушения»8 [Papla, 1990: 352; 1994: 182]; учение о сродном труде; «различение двух типов познания»: скользящего «по поверхности бытия» и укорененного «"в Боге"»; решительное предпочтение «чувственного знания, от которого нужно восходить к знанию духовному»; чувство «духовного единства с мирозданием» как залог бессмертия человеческой души; «образ Библии как книги мироздания, указывающей и на природу как на текст» [Филимонов]; достижение духовной свободы путем отказа от мирских соблазнов; наследие античности как живой мост «к достижениям мировой культуры», пробуждающим «жажду самопознания», «"любомудрие"», стремление «строить свою жизнь как философское произведение» [Черненко, 2011].
Отражение «сковородинской» концепции трех миров в философской лирике Тарковского — таков следующий возможный шаг на пути постижения глубинных взаимосвязей творчества поэта с духовным миром его учителя. Под этим углом зрения, насколько нам известно, проблематика избранных стихотворений Тарковского будет рассматриваться впервые, что, думается, позволит как в целом, так и в деталях расширить и обогатить мировоззренческий контекст анализа творчества Тарковского.
Религиозно-мистическая концепция трех миров излагается в «Главе 2-й» трактата Сковороды «Діалог. Имя ему — Потоп зміин» (2-я ред., 1791 г.). Нетленный Дух в беседе с Душой посвящает ее в сокровенные тайны мироустройства:
«Суть же тры мыры. Первый есть всеобщій и мыр обительный, гдѣ все рожденное обитает. Сей составлен из безчисленных мыр-мыров и есть великій мыр. Другіи два суть частныи и малыи мы-ры. Первый мікрокозм, сирѣчь — мырик, мирок, или человѣк. Второй мыр симболичный, сирѣчь Библіа <…> затѣм что в ней собранныя небесных, земных и преисподних тварей фигуры, дабы они были монументами, ведущими мысль нашу в понятіе вѣчныя натуры, утаенныя в тлѣнной…»9.
По поводу «сковородинской» концепции трех миров Дмитрий Чижевский (1894–1977) приходит к следующим выводам. Во-первых, всеобщий мир «движется своеобразным способом, разрушаясь и вновь собираясь в единство. Это движение мира составляет сущность его жизни»10. Во-вторых, «путь творения, его собственный, ему принадлежащий путь, Сковорода представляет себе подобным тому пути, которым идет и должен идти каждый человек. В этом параллелизме проявляется та всеобщая гармония, которая существует между "тремя мирами". В каждом из трех миров этот общий для всего, для всякого бытия путь ведет через смерть к жизни, <…> к воскресению». Наконец, в-третьих, мироздание «Сковороды — это космос, упорядоченный и прекрасный благодаря вечной идеальной своей основе» [Чижевський, 1934: 96].
В стихотворениях «Я учился траве, раскрывая тетрадь…» (1956), «Посредине мира» (1958), «Степь» (1961) макро- и микрокосмос, библейские мотивы и символы связываются в единый проблемный комплекс. В первом из упомянутых текстов лирический герой, воплощающий поэтический микрокосмос, интуитивно и образно-символически осмысливая сокровенные феномены макрокосмоса — живого мира травы и стрекоз, увиденного глазами его души, открывает в себе дар пророка и тайновидца:
«Я учился траве, раскрывая тетрадь, И трава начинала как флейта звучать. Я ловил соответствия звука и цвета, И когда запевала свой гимн стрекоза, Меж зеленых ладов проходя, как комета, Я-то знал, что любая росинка — слеза, Знал, что в каждой фасетке огромного ока, В каждой радуге яркострекочущих крыл Обитает горящее слово пророка, И Адамову тайну я чудом открыл»
( Тарковский, 1969 : 44).
В процитированном фрагменте весьма неслучайные смысловые коннотации выказывает образ травы, звучащей «как флейта». По свидетельству Михаила Ковалинского (1745–1807), Сковорода, помимо прочих музыкальных инструментов (скрипки, бандуры, гуслей), играл также на поперечной флейте (флейт-траверсе) — «на флейтраверѣ <…> приятно и со вку-сом»11. Трава же выступает здесь субститутом растения как такового, которое в философской интерпретации Сковороды символизирует собственно Вселенную/макрокосмос [Чижевсь-кий, 1934: 96–103], подверженный непрерывным циклическим трансформациям разрушения и обновления (ср. евангельский образ травы полевой , «которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь» — Мф. 6:30). Дальнейшее развитие растительного образа макрокосмоса прослеживается в стихотворении «Степь», где репрезентирующий микрокосмос лирический субъект, ранее «чудом» открывший «Адамову тайну», теперь предстает в ипостаси самого ветхозаветного Адама, дающего имена феноменам созданного Богом мира (ср.: Быт. 2:19–20):
«И в сизом молоке по плечи
Из рая выйдет в степь Адам И дар прямой разумной речи Вернет и птицам и камням,
Любовный бред самосознанья Вдохнет, как душу, в корни трав, Трепещущие их названья Еще во сне пересоздав» ( Тарковский, 1969 : 47).
Субъект лиро-философского монолога «Посредине мира», осознающий свою идентичность в смысловом регистре ветхозаветного пророка («Времен грядущих я Иеремия»), можно сказать, непосредственно рефлектирует на тему взаимного соотношения макро- и микрокосмоса. При этом он, подобно Сковороде, не только ставит человека в центр мироздания, но и провозглашает его мерой всех вещей12:
«Я человек, я посредине мира, За мною мириады инфузорий, Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост — Два берега связующее море, Два космоса соединивший мост»
( Тарковский, 1969 : 135).
В целом отмеченный проблемный аспект взаимодействия макро- и микрокосмоса, т. е. мира и человека во всем богатстве и разнообразии проявлений каждого из них, по праву следует отнести к числу важнейших в контексте философской лирики Тарковского. М. Черненко справедливо замечает: «Духовные поиски поэта направлены на постижение тайны возникновения мира, человека, слова — в его священной функции осмысления и преображения жизни» [Черненко, 2012]. Исследовательница также очерчивает координаты хронотопа, в рамках которого осуществляются эти поиски:
«Поэзия Арсения Тарковского сравнима со средокрестием, в котором взаимно пересекаются не только вертикаль "прошлое — будущее", но и горизонталь "восток — запад". Его поэтическое пространство — сплетение силовых линий, соединяющих Восток — Запад в их историческом и культурном понимании» [Черненко, 2012].
Необходимо более внимательно присмотреться к пространственной составляющей хронотопа в поэзии Тарковского, которая непосредственно соотносится с категорией макрокосмоса — окрестного мира, стоящего «в короне / Своих морей и городов». Стремясь «вдохнуть в стихотворенье / Весь этот мир, меняющий обличье / <…> прекрасный и горбатый, / Как дерево на берегу Ингула» ( Тарковский, 1969 : 158, 25), поэт в ряде текстов упоминает конкретные названия географических объектов. Например, уже в самих титулах стихотворений «Мельница в Даргавском ущелье» (1935), «Цейский ледник» (1936, 1940), «Дождь в Тбилиси» (1945), «Дагестан» (1946), «Утро в Вене» (1958), «Карловы Вары» (1959), «Снежная ночь в Вене» (1960), «Приазовье» (1968) и др. названы топосы, которые автор лично посетил. Заголовок же текста «Град на Первой Мещанской» (1935), содержащий название улицы, непосредственно указывает на то, что описанные в нем события происходят в Москве, с которой Тарковский был связан по жизни с конца июня 1925 г. до последних своих дней. А вот имени своего родного города Елисаветграда/Зиновьевска/Кировограда (с 2016 г. Кропивницький), который выступает местом действия довольно заметного числа стихотворений, поэт не называет ни разу. Упоминается только приток Южного Буга Ингул, на берегах которого расположился город («Дождь», 1938), и впадающая в него Сугаклея («Река Сугаклея уходит в камыш…», 1933), — «Неспешная и мелкая река, / Вся в камыше и ряске» ( Тарковский, 1980 : 31), — да еще любимое место отдыха елисаветградцев — Казенный сад («Еще в ушах стоит и звон и гром…», 1976).
Одним из самых репрезентативных проявлений макрокосмоса в философской лирике Тарковского выступает пространство степи. Чижевский утверждает, что степной географический ландшафт является тем естественно-природным фактором, «который в наибольшей степени способствует формированию» сложного комплекса амбивалентных и к тому же взаимно противоречивых «черт психики». Это, прежде всего, «эмоциональность и сентиментализм, впечатлительность и лиризм», проявляющиеся в примирительно-эстетическом восприятии и соответственном отражении действительности, в приятии «всего на свете, поскольку оно "прекрасно"», в гармоничности той картины мира и жизни, которая разворачивается в процессе эстетического созерцания. Далее ученый отмечает «индивидуализм и стремление к "свободе" в различных смыслах этого слова», подчеркивая, что в лучших своих проявлениях «индивидуализм может <…> порождать в определенных случаях истинно-позитивные формы творческой активности». Наряду с этими основными чертами указаны также дополнительные: «беспокойство и подвижность, больше психические, чем внешние, что связано в своей основе с определенным "артистизмом" натуры, со стремлением к переходу во все новые и новые формы» [Чижевський, 1992: 19].
Формирование всех перечисленных характеристик и свойств человеческой психики под влиянием степного пространства Чижевский объясняет тем, что «…степь, безусловно, является той формой бытия природы, которая может быть поставлена рядом с западноевропейскими ландшафтами, выступающими главными носителями величественного. То чувство беспредельно-могущественного, или беспредельно-великого, которое вызывают море, лес и горы, принимает также специфическую форму и в степи, объединяющей размах пейзажа с буйным расцветом жизни природы; эстетическое и религиозное чувство и философское сознание одинаково вырастают на почве степного ландшафта» [Чижевський, 1992: 20].
Приведенные теоретические положения Чижевского позволяют глубже осознать молитвенно-вдохновенную природу эстетико-религиозной созерцательности, к которой склоняет степной макрокосмос Тарковского, и то ощущение внутренней свободы, которым он исполнен. Сохраняя все признаки традиционно-самодостаточного географического ландшафта с его характерными реалиями13, степь в лиро-философской интерпретации Тарковского вместе с тем предстает как то универсальное «пространство духа <…>, где общаются философы, поэты, художники, странники, пастухи» [Черненко, 2012]. В стихотворениях из цикла «Степная дудка» (II–IV) и др.: «В дороге» (1959), «Степь», «Приазовье», «Григорий Сковорода», «Где целовали степь курганы…», — развернута целая галерея степных пейзажей, настолько же физически трехмерных, чувственно осязаемых и зримых со всей их контрастной колористикой14, насколько и символически обобщенных:
«Степь отворилась, и в степь как воронкой ветров Душу втянуло мою. И уже за спиной
Не было мазанок; лунные башни вокруг Зыблились и утверждались до края земли. Ночь разворачивала из проема в проем Твердое, плотно укатанное полотно.
Спал я, пока в изголовье моем остывал Пепел царей и рабов и стояла в ногах Полная чаша свинцовой азовской слезы»15 ( Тарковский, 1980 : 19).
Символику степи, пронизанной артериями рек и других водоемов, Тарковский традиционно соотносит с женскими стихиями земли и воды, полноту которых достраивает и уравновешивает взаимодействие с мужскими стихиями воздуха и огня / сверкающего полотенца небесных светил. При этом целостная пространственная перспектива макрокосмоса разворачивается по вертикали: от земли — до неба — и дальше — к звездам16. Более или менее явственные признаки и символы астральной сферы (т. е. еще одного из «безчислен-ных мыр-мыров», по определению Сковороды) присутствуют в довольно большом количестве текстов поэта-звездолюбца17, сказавшего о себе: «Мало взял я у земли для неба, / Больше взял у неба для земли» (Тарковский, 1969: 174). Их венчает могучая архитектура элегии «Телец, Орион, Большой Пес» («Могучая архитектура ночи!‥», 1958). Опорными пунктами лиро-философской медитации здесь выступают космические объекты, переосмысленные как высокосуггестивные астральные символы мирозданья: «алмазные Плеяды», «золотые / Рога Тельца / и глаз его, горящий / Среди Гиад», «Немыслимое чудо Ориона», «Сириус — / с египетской, загробной, / собачьей головой». Все это космическое великолепие лирический созерцатель в упоении божественного «счастья» скрупулезно перебирает «позвездно», пересчитывает «по каталогу», перечитывает «по книге ночи» (Тарковский, 1969: 201–202).
Пристальное внимание лирического героя к объектам великого мира отнюдь не случайно. В философском смысле оно обусловлено теми закономерностями универсального характера, которые отмечает Чижевский в ходе анализа парадигм «сковородинского» микрокосмоса: «Человек — "микрокосмос", "око его сердца", отражает в себе весь мир. <…> Подобие структуры великого и малого мира для Сковороды — только специальный случай общего согласия, параллелизма между разными сферами бытия <…> Антропология выказывает разнообразные пункты подобия с космологией. Таким образом оказывается, что учение о микрокосмосе является лишь одной главой из всеобщей доктрины о подобиях и паралле лизмах в стро ении мира» [Чижевський, 1934: 124].
В философской лирике Тарковского представлен ряд высокохудожественных уподоблений микрокосмоса феноменам избранных «мыр-мыров» макрокосмоса. Лирический повествователь, — «младший из семьи / Людей и птиц», «молочный брат листвы и трав, / <…> собеседник и ровесник / Деревьев полувековых», которому «всего дороже в мире / Птицы, звезды и трава», чьи «жилы крепко сращены / С хрящами придорожной бузины», — прозревает мистические истины нерасторжимого единства всего живого: «Людская плоть в родстве с листвой, / И мы чем выше, тем упорней: / Древесные и наши корни / Живут порукой круговой» ( Тарковский, 1969 : 154, 138, 284, 199, 140).
По мнению Чижевского, учение «Сковороды о микрокосмосе в отличие от соответственного учения ренессанса и барокко на Западе имеет окраску не натурфилософскую, а этическую и религиозную», причем мыслитель из него «не делает никакого метафизического употребления» [Чижевський, 1934: 124]. Религиозно-этическая проблематика преобладает и в художественном мире Тарковского, в процессе уподобления макро- и микрокосмоса выказывая в ряде случаев свою мифологическую подоплеку. Например, лирическая героиня стихотворения «Серебряные руки» (1959), образ которой генетически связан с протагонисткой религиозно-христианской сказки братьев Якоба (1785–1863) и Вильгельма (1786–1859) Гримм «Девушка без рук» («Безручка»), спасаясь от разбойников, взывает о помощи и защите к лесным березам, надеясь, что они превратят ее в одну из них18. Тем временем в притчевой миниатюре «Иванова ива»19 (1958) вербально-мифологически нерасторжимая связь человека и дерева подчеркнута подобием звучания уже самого имени каждого из них: «Иван» осмысливается как грамматическая форма мужского рода от «ива» — и наоборот.
В ходе активного взаимодействия не только микрокосмос уподобляется макрокосмосу, но и великий мир органически вочеловечивается. Лирический герой глядится «в зеркало природы, / В ее лице свое узнав», прислушивается движению соков в клетках растений, где «от головы до пят / Шарики зеленой крови / В капиллярах шебуршат» ( Тарковский, 1969 : 138, 284). Он даже знает, как и чем накормить степь, щедро делясь с нею своим хлебом насущным : «Ремни развязал я, и хлеб / Солью посыпал, и степь накормил, а седьмой / Долей насытил свою терпеливую плоть» ( Тарковский, 1980 : 19), — так что сакральный подтекст процитированного фрагмента довлеет соответственному стиху «Молитвы Господней» («Отче наш…»): «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» (Мф. 6:11).
«Сковородинская» концепция трех миров в философской лирике Тарковского интересна не только самим фактом наличия в ней структурно-смысловых соответствий глобальным категориям макро- и микрокосмоса, а также интерпретационного кода Библии, выказывающих различные формы взаимовлияний и взаимодействий. Особое значение в этом контексте приобретает образ-символ самого автора данной концепции. Так, один из важнейших представителей микрокосмоса Тарковского — рефлектирующий поэт-странник, неутомимо бороздящий пространство мира обительного , в сущности, ведет тот же образ жизни, что и украинский мыслитель на последнем этапе своего земного бытия (1769–1794)20. Лирический субъект Тарковского убежден: «…по лицу моей вселенной / Он до меня прошел, как царь» ( Тарковский, 1980 : 23); себя же самого, развернув грандиозную панораму степи, осмысливает как духовного наследника своего великого предшественника:
«Там пробирался я к Азову: Подставил грудь под суховей, Босой, пошел на юг по зову Судьбы скитальческой своей. Топтал чабрец родного края И ночевал, не помню где, Я жил, невольно подражая Григорию Сковороде» ( Тарковский, 1980 : 23).
Генезис архетипического образа лирического странника уходит корнями в такие стихотворения довоенного периода, как «Прохожий» (1931), «Колыбель» (1933), «Ялик» (1940). В этом последнем, представляющем собой визуализацию образов измененного состояния сознания, «неосторожный <…> загорелый <…> ребенок» бродит «вдалеке от больших дорог» и не хочет «возвращаться домой» (Тарковский, 1969 : 30). Тем временем титульный прохожий — еще один наследник любителя «Священныя Библіи» Сковороды — в двух первых текстах выступает носителем не только активного мужского начала, которое невпопад врывается в отторгающий его пассивно-уравновешенный женский домашний уют, но и вечных нематериальных ценностей21. Можно предположить, что он вовсе не простой прохожий или даже странствующий мудрец, а тайный вестник родом из духовного мира — ведь именно так озаглавлен сборник Тарковского 1969 г. И поэтому он вовсе не простой «белый хлеб в руках несет» ( Тарковский, 1969 : 8) — не пищу тленную , а евангельский «хлеб жизни» (ср.: Ин. 6:27, 35).
Более явственно мистические мотивы, едва обозначенные в стихотворении «Прохожий», отчитываются при их сопоставлении с содержанием следующего в сборнике непосредственно за ним лирического диалога «Колыбель». Эти два текста складываются в мини-цикл, в котором фигурирует один и тот же лирический герой — небесный вестник, принявший облик обычного прохожего — странствующего вечернего пришельца. В первом из рассматриваемых текстов он не произносит ни слова, будучи глубоко погружен в себя: «никого не замечает», — а во втором ведет разговор с озабоченной матерью, укачивающей дитя, которую можно назвать земной мадонной с неземным младенцем, отмеченным печатью Святого Духа. «Он как белый голубь22 дышит / В колыбели лубяной», — говорит мать о своем сыне, оберегая его сон и не отходя от него ни на шаг. О ее же неожиданном вечернем госте можно сказать, что он пребывает в полной гармонии с мирозданьем/макрокосмосом: «С досужим ветерком играет», провожает «день <…>, звезду» встречает. Своей собеседнице прохожий предлагает исполненные сакральной символики дары: «Свет вечерний, ковш кленовый, траву-подорожник» (Тарковский, 1969: 9, 8, 10).
Мотив вечернего света получил дальнейшее развитие в стихотворении 1958 г., которое начинается словами: «Вечерний, сизокрылый, / Благословенный свет!» ( Тарковский, 1969 : 97). Оно является индивидуально-авторской вариацией на тему ежедневной вечерней молитвы «Фос Иларон…» / «Свете Тихий…» — самого раннего из известных христианских гимнов, записанного в конце III или в начале IV в. и первоначально созданного на греческом языке23. Диакон Михаил Асмус комментирует: «…в гимне "Свете Тихий" есть прямое указание на время дня: <…> видевше свет вечерний … Причем это указание порождает дивный по красоте и силе образ Христа — тихого Сияния святой славы Небесного Отца. <…> Христос называется по аналогии со светом закатного солнца…» [Асмус].
В стихотворении «Колыбель» образ-символ Иисуса Христа, скрытый в мотиве вечернего света, соотносится также с очередным даром прохожего-вестника, который сначала просит свою собеседницу: «Дай мне напиться», — получая отказ: «Где криница — там водица, / А криница на пути. / Не могу я дать напиться, / От ребенка отойти», — а потом сам предлагает ей свой мистический «ковш кленовый» (Тарковский, 1969: 9–10). Все это ассоциируется с евангельским мотивом живой воды, «текущей в жизнь вечную», о которой «Иисус, утрудившись от пути, <…> у колодезя» Иаковлева «около шестого часа» поведал Самарянке (Ин. 4:6–14). В подобном сакральном соседстве также третий из даров — трава-подорожник — приобретает статус не просто лекарственного, а чудодейственного растения, способного лечить раны не только телесные, но и душевные. При этом контекст евангельских ассоциаций дополняют слова Христа: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

Илл. 1. Дарственная надпись Арсения Тарковского (Из личной библиотеки И. П. Бетко)
Fig. 1. The inscription of Arseny Tarkovsky (From the personal library of I. P. Betko)
Интерес Тарковского-лирика к личности Сковороды и его религиозно-философским воззрениям глубок и не формален. Не сводясь к двум проникновенным стихотворениям, непосредственно посвященным украинскому мыслителю, этот интерес прослеживается в довольно значительном корпусе высокохудожественных текстов. В частности, в проанализированных стихотворениях нашла отражение «сковородин-ская» концепция трех миров . Тарковскому, как и его духовному учителю, близка идея сосуществования макро- и микрокосмоса, взаимно уподобляющихся друг другу. Осознание гармонического взаимодействия одухотворенной вочеловечен-ной Вселенной и человека, ощущающего кровное родство с ней, у обоих авторов осуществляется (явно или ассоциативно) при посредстве библейских контекстов, символов и аналогий. В то же время сродность Тарковского «сковородинско-му» психотипу, проявившаяся в склонности поэта к углубленной саморефлексии и мистической созерцательности, способствовала органическому синтезу ментального, эмоционального и религиозно-духовного начал в его творческих поисках и самореализации.
Reflection of the “Three Worlds” Concept of Grigory Skovoroda…
Список литературы Концепция "трех миров" Григория Сковороды в философской лирике Арсения Тарковского
- Асмус М. Свет Невечерний // Нескучный сад. 2009. 6 августа [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravmir.ru/svet-nevechernij/(01.03.2023).
- Козлова А. Г., Скоробогатова О. О. Григорiй Сковорода та Арсенiй Тарковський // Тези доповiдей харкiвських сковородинiвських читань, присвячених 270-рiччю з дня народження Григорiя Савича Сковороди (24-25 листопада 1992 р.). Харкiв: ХДУ, 1992. С. 143-144. (а).
- Козлова А. Г., Скоробогатова О. О. Поетичне звернення А. О. Тарковського до спадщини Г. С. Сковороди // Проблеми вивчення наукової i художньої спадщини Г. С. Сковороди: тези доповiдей респ. наук. конф., присвяченої 270-рiччю з дня народження українського поета i фiлософа. Харкiв: ХДПI iм. Г. С. Сковороди, 1992. С. 23-24. (b).
- Филимонов В. Григорий Сковорода и Арсений Тарковский: о "тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертье косяком" [Электронный ресурс]. URL: http://www.bigbook.ru/articles/detail.php?ID=22005 (01.03.2023).
- Черненко М. Арсений Тарковский и Григорий Сковорода: за птицей-истиной // Международный клуб православных литераторов "Омилия". 2011. 23 марта [Электронный ресурс]. URL: https://omiliya.org/content/arsenii-tarkovskii-i-grigorii-skovoroda-za-ptitsei-istinoi.html (01.03.2023).
- Черненко М. О диалоге культур и времен в поэзии Арсения Тарковского // V Международная научная конференция "Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет" (Варшава, 3-13 мая 2012). Международный клуб православных литераторов "Омилия". 2012. 29 мая [Электронный ресурс]. URL: https://omiliya.org/content/o-dialoge-kultur-i-vremen-v-poezii-arseniya-tarkovskogo.html (01.03.2023).
- Чижевський Д. I. Фiльософiя Г. С. Сковороди. Warszawa: Ukraiński Instytut Naukowy, 1934. 224 с.
- Чижевський Д. I. Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi / випр. вид. К.: Орiй, 1992. 230 с.
- Papla E. Liryka Arseniusza Tarkowskiego wobec idei filozoficznych Hrihorija Skoworody i Pierre'a Teilharda de Chardin // Dziesięć wieków związku Wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu. Lublin, 1990. Cz. I: Literaturoznawstwo / pod red. J. Borsukiewicza. S. 351-363.
- Papla E. Człowiek, natura i kultura w liryce Arsenija Tarkowskiego // Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich / pod red. P. Fasta, L. Rożek. Katowice: Śląsk, 1994. S. 173-191.