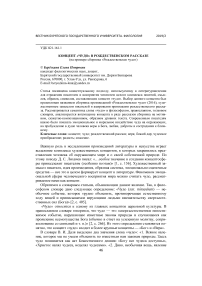Концепт чудо в рождественском рассказе (на примере сборника "Рождественское чудо")
Автор: Березкина Елена Петровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Концепты в литературе
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена концептуальному подходу, используемому в литературоведении для отражения писателем и восприятия читателем целого комплекса понятий, смыслов, образов, символов, составляющих концепт «чудо». Выбор данного концепта был продиктован названием сборника произведений «Рождественское чудо» (2016), художественным замыслом писателей и жанровыми признаками рождественского рассказа. Рассматривается семантика слова «чудо» в философском, православном, толковом словарях, анализируется воплощение концепта в ряде рассказов сборника на мотивном, сюжетно-композиционном, образном уровнях текста. Современным писателям важно было показать эмоциональное и моральное воздействие чуда на окружающих, на пробуждение в душе человека веры в Бога, любви, доброты и сострадания к ближнему.
Концепт, чудо, рождественский рассказ, вера, божий дар, чудесное преображение, радость, спасение
Короткий адрес: https://sciup.org/148317732
IDR: 148317732 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Концепт чудо в рождественском рассказе (на примере сборника "Рождественское чудо")
Важную роль в исследовании произведений литературы и искусства играет выделение комплекса художественных концептов, в которых закрепились представления человека об окружающем мире и о своей собственной природе. По этому поводу Д. С. Лихачев писал: «…особое значение в создании концептосфе-ры принадлежит писателям (особенно поэтам)» [1, с. 156]. Художественный замысел писателя, идея произведения, образная система, эмоционально-оценочные средства — все это в целом формирует концепт в литературе. Феноменом эмоциональной сферы человеческого восприятия мира можно считать чудо, рассматриваемое нами как концепт.
Обратимся к словарным статьям, объясняющим данное явление. Так, в философском словаре дано следующее определение: «Чудо (лат. miraculum) — необычное событие, которое трудно объяснить, противоречащее естественному ходу вещей и приписываемое верующими людьми вмешательству сверхъестественных сил (Бога)» [2, с. 405].
«Чудо» относится к одному из главных концептов церковной культуры. В православном словаре говорится, что чудо — это «сверхъестественное непостижимое событие, нарушающее известные законы природы и случающееся как проявление всемогущества Бога (обычно в ответ на усиленную молитву, соприкосновение со святыней и т. п.)» [2, с. 266]. Из этого определения становится понятно, что концепт «чудо» входит в более крупные концепты — «Бог» и «Вера».
В словаре В. И. Даля выделено два значения слова «чудо»: «1. Всякое явление, которое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы. Здесь чудо понимается как акт Божественного деяния: «Богу все чудеса доступны», «Христос являл чудеса, исцелял чудесами». «2. Диво, необычная вещь, явление или случай. В этом значении чудо — результат деятельности человека: “Каким чудом ты здесь оказался?”» [4, с. 795]. То есть отмечается двойственная природа чуда.
Чудом можно назвать любое явление, которому удивляется человек: это может быть редкое явление природы или что-то сотворенное человеческими руками и разумом. Чудо может пониматься и как некий знак, посланный свыше, как знамение, например, солнечное затмение в древнерусском тексте «Слово о полку Игореве». Чудо редко в своем проявлении, случается нечасто, поэтому остается в памяти надолго. Оно необычно по своей природе и воздействию на человека, необъяснимо до конца с точки зрения обычных бытовых событий.
Интересно, что в «Словаре синонимов русского языка» отсутствуют синонимы к слову «чудо» в значении «проявление божественного». А к слову «диво» как «необычная вещь» синонимический ряд подобран: «диковина, невидаль, невидальщина», т.е. в данном ряду отсутствует божественность проявления чудесного [5].
Подходя к культурным концептам с точки зрения логического анализа языка, С. А. Никитина указывает на то, что через понятие «чудо» бывает выражена эмоционально-интеллектуальная оценка события, явления, предмета, где высшая степень изумления / удивления может перейти либо в ужас, либо в восторг и восхищение [6, с. 34]. Чудом можно восхищаться, ему можно радоваться, оно может приносить счастье и быть полной противоположностью: вызывать ужас, страх, неприятие чего-либо. В этом проявляется эмоциональная сторона концепта.
В. И. Карасик рассматривает «чудо» как один из культурных концептов и выделяет в его значении такие же компоненты: «нечто необычное, небывалое, сверхъестественное, вызывающее удивление и восхищение». Исследователь обращает внимание на то, что «фрейм чудесного явления строится как образ ситуации, в центре которой находится очевидец, переживающий реальность необъяснимого явления» [7, с. 11, 15].
Рассматривая концепт «чудо» на конкретном литературном материале, остановимся на том, что понимается под чудом, в чем оно проявляется и какое воздействие на окружающих производит. В Библии, житиях святых и мучеников, сказках и легендах проявление чуда представлено как должное, оно не бралось под сомнение, не требовалось доказательств его существования.
Жанром, получившим свое распространение в XIX в. и отразившем идею чудесного преображения, является рождественский рассказ. Истинная вера человека в Божественную сущность способна сотворить в душе человека самое настоящее чудо. Именно так происходит в рассказах Н. С. Лескова «Жемчужное ожерелье», «Христос в гостях у мужика». Традиция данного жанра была сохранена в XX в. и продолжена писателями XXI столетия.
К жанру рождественского рассказа в 1990–2010-х гг. писатели обращались достаточно часто, например, Д. Быков в рассказе «Девочка со спичками дает прикурить», И. Клех — «Рождество в третьем Риме, или Чудо о снеге», Н. Ключарева — «Юркино рождество», О. Павлов — «Конец века», Л. Петрушевская в сборнике «Котенок господа бога. Рождественские истории», В. Токарева в «Рождественском рассказе», Л. Улицкая в новелле «Капустное чудо» и многие другие. В 2016 г. вышел сборник рассказов «Рождественское чудо», в котором авторы изобразили рождественские события как чудесные. Произведения неравнозначны по своим художественным достоинствам, но концепт «чудо» в них явственно представлен.
Прежде всего, концепт «чудо» объясним как Божественное деяние, Божий дар, необычный случай. При его раскрытии выделяется несколько составляющих: суть самого чуда, в чем оно состоит; тот, кто его осуществил или осознал произошедшее как чудо; хронотоп (время и место) осуществления чуда; его воздействие на окружающих или результат.
Так, в 14 рассказах из этого сборника само слово «чудо» встречается 7 раз и представлены производные от него: «чудачество», «почудилось», «чудок», «чудно», «чудесный», «чудный». Кроме того, о чуде говорится через смежные описания по значению: «что-то чрезвычайное»; «невероятное»; «то, чего у меня нет, но очень нужно»; «по вере вашей будет вам»; «просто фантастическое происшествие». Важным является и смысловое наполнение концепта: в каждом рассказе происходит главное рождественское событие — возрождение или обновление человеческой души, которое также соотносится с областью чудесного преображения.
В отрывке из повести Олеси Николаевой «Ничего страшного...» изображается судьба двух молодых людей, которые создали семью после страшного происшествия. Грабители связали их спинами друг другу, поместили в ванну, открыли воду, заткнули сток и ушли. Осознав всю нелепость ситуации, герои единодушно решили, что будут вместе молиться и стали петь: «Два ангельских гласа вдохновенно взывали к небесам. “Заступнице усердная...” — раздавалось из ванной. “Богородице Дево, радуйся!” и даже “Во Иордане крещающуся Тебе, Господи!”» [8, с. 198]. Рассказ имеет счастливый финал: соседи спасли девушку и юношу, который после этой истории стал священнослужителем одного из московских храмов.
В рассказе несколько раз использовано слово «чудо» [8, с. 186] и производные от него: «чудесно» [8, с. 197], «чудный» [8, с. 200], чудесное сспасение определено как «такое невероятное, что в него даже трудно поверить» [8, с. 187]. Повествователь считает, что такое событие, благодаря чудесной основе и нравоучительному смыслу, и отражает черты жанра рождественского рассказа. С другой стороны, ничего сверхъестественного не происходит, молодые люди спасены, чтобы понять, как они любят друг друга и смогут вместе пройти свой земной путь, сохраняя веру в Бога.
Иначе выстраиваются события в рассказе «Звездою учахуся» Виталия Каплана. Остро драматичен его сюжет: взрослый сын обретает своего отца. Герой рассказа Михаил Николаевич после рождественской утрени (ночной службы) возвращается домой пешком. Встреча с незнакомыми людьми, проезжавшими по пустынной улице на джипе, оказалась чудом, в которое вначале герой поверил и обрадовался, а потом испытал ужас. В дороге завязался разговор о вере, о Боге и спасении, и ответы верующего человека были восприняты бандитами резко негативно. Всю боль за социальную несправедливость, свои личные обиды они возложили на Бога. С этого момента как будто бесовское начало вселяется в сознание этих героев, особенно их бригадира. Главарь бандитов потребовал остановить машину и подвесить Михаила Николаевича на дереве: «Типа богословский эксперимент. Спасет тебя твой Христос или как? …Ты же веришь в Него? Ты ж Его любишь? Ну, вот Он тебя и выручит. Уж не знаю как. Типа там огненная колесница или ангелы… как там у вас полагается? А если нет… значит, и Бога никакого нет.... Зато послужишь науке» [8, с. 71]. Блатные сняли с него куртку и повесили на дереве, как на дыбе.
Концепт «чудо» представлен в рассказе в своей амбивалентности: чудесное проявление милосердия — богоугодное дело (подвезти человека в рождественскую ночь) переходит в чудовищное испытание — бесовское искушение (подвесить на дереве без верхней одежды в мороз).
Интересно, что подобные действия бригадира герой-рассказчик называет «чудачеством» [8, с. 64], вкладывая в это слово ироничную окраску, но не видит в производимом ими действии трагедии. Происходит наполнение концепта отрицательной эмоциональной окраской, действия бандитов вызывают страх, ужас, пугают, свидетельствуют о полном духовном одичании героев. Однако по законам жанра рождественского рассказа, должно настать перерождение души, обретение веры, поэтому сюжет изменяется: водитель джипа — Костыль узнает из данных в паспорте, что подвешенный ими человек — его родной отец. Он разворачивает машину и едет спасать родного человека. «Папа, ну продержись, я быстро! — На глаза наворачивались давно забытые слезы. — Господи! Значит, Ты и вправду есть? Ну помоги ему…мне…нам…» [8, с. 81]. Чудесное обретение отца заставляет героя поверить в бога и надеяться на спасение, т.е. происходит прозрение, и концепт «чудо» обретает семантику «проявление божественного спасения».
Жанровые каноны выдержаны в традициях святочного или рождественского рассказа. В произведении изображен резкий конфликт между религиозным сознанием, готовым к смирению, и безбожным поведением бандитов, считающих себя богами земными, «право имеющими» казнить и миловать. Еще одной чертой рождественского рассказа является неожиданный финал, показывающий перерождение души одного из персонажей. Концепт чуда реализуется в его понятийном представлении: чудесное перерождение происходит в душе циничного и расчетливого бандита, сумевшего сохранить светлые детские воспоминания об отце.
Обратимся к еще одному рассказу, героем которого является ребенок. В основе сюжета Натальи Ключаревой «Юркино Рождество» конфликт отцов и детей: герой, родители которого спиваются, вынужден бороться с ними за свое выживание. Характер Юрки, так зовут мальчика, позволяет справиться со «свинцовыми мерзостями жизни». Локализация концепта чуда происходит через мотив «почудилось» [8, с. 115], в смысле — поверилось. Герою-ребенку захотелось поверить, что спившаяся мать сможет купить ему на рождество елку и у него будет настоящий новогодний праздник. К сожалению, этого чуда со стороны деградировавших родителей не происходит, и тогда 11-летний сын начинает с ними бороться, выгоняет их из квартиры и живет самостоятельно.
Однако рассказ на этом не завершается, автор вводит прием антитезы и происходит перемена декораций через удвоение сюжетного признака рождества. Теперь взрослый сын дарит матери, находящейся на лечении в психиатрической больнице, рождественскую елку, которую она когда-то пообещала купить ему, но не сдержала своего слова. Теперь на елку восторженно, как ребенок, смотрит его мать и жизнь начинает наполняться светом. Вместо слова «чудо» вводится заменяющая конструкция «что-то чрезвычайное» [8, с. 127], позволяющая понять, что чудо в душах героев все же произошло.
Мотив восстановления семьи, разрушенных родственных связей реализуется в сумасшедшем доме, куда попадает мать Юрки, допившаяся до белой горячки. Она не узнает в сыне родного человека, считает, что ее навещает чужой молодой человек, и предлагает ему стать сыном, на что герой соглашается. Понятия «мать-дитя», «взрослый-ребенок», «свой-чужой» меняются местами, обостряя трагизм, с одной стороны, и показывая, что любовь и сострадание всегда живут в сердцах близких людей — с другой.
Таким образом, становится понятно, что Н. Ключарева предлагает оригинальное решение вечной проблемы добра и зла: «…некогда совершенное зло прорастает иррационально, вне ожидаемой логики, прорастает добром» [9, с. 28]. А проявления иррационального, нарушающего логику, относятся к чудесному. Любовь, которую сумел сохранить в душе сын, преобразуется в чудо. В. Н. Топоров в работе «Миф. Ритуал. Символ. Образ» обращал внимание именно на такой смысл чудесных явлений: «Таинство чуда выше закона возмездия — Кармы, а любовь — высшее чудо, она дает бескрылому крылья» [10, с. 418]. Чудо нельзя логически объяснить, рассчитать, спрогнозировать, оно не поддается анализу, контролю, волевым решениям, поэтому повзрослевший сын в рассказе «Юркино рождество» все же возвращается к потерявшей память матери.
А. Солоницын практически повторяет мотив рассказа Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке», когда его безымянный герой тоже засыпает за поленницей дров и попадает во сне на праздник рождества Христова. Но современный автор меняет финал рассказа, придавая ему черты чудесного. Появление святого Николая, угодника Божия, в честь которого и был назван мальчик, оборачивается приходом реального человека — Николая Николаевича Павлова, который спасет ребенка. Когда мальчик открывает глаза, то видит елку и икону. «На иконе был изображен тот самый дедушка, который спас его от контролеров в электричке и который привел его на необыкновенный каток» [8, с. 229]. Чудо рождества свершилось, Коля спасен от смерти, а семья Павловых, совершив этот поступок добра и милосердия, спасает свои души. Отец семейства Николай Николаевич показывает пример добродетельного поведения своим детям.
Автор в рассказе намеренно дает героям одно и то же имя: мальчика-страдальца зовут Коля, старца зовут Николаем, спасителя тоже Николаем Николаевичем, и на иконе изображен Николай Чудотворец, один из самых почитае- мых святых в православии, прославившийся как великий Угодник Божий. Известно, что именно этот Святой помогал бедствующим людям, спасал в кораблекрушениях, освобождал пленных, избавлял от смерти, исцелял от болезней. Его божественное присутствие в рассказе оказывается оправдано, а само произведение полностью соответствует канону рождественского жанра. Интересно, что в рассказе ни разу не использовано слово «чудо», но все произошедшее можно объяснить только как божественное деяние, необычайный случай.
В сборнике «Рождественское чудо» представлены рассказы, где героем также является ребенок: «Голуби» Веры Евтуховой, «Черепашка» Владимира Гурболи-кова, «Бабочка» Елены Седовой. Авторы обращают внимание на детскую чистоту души, искренность помыслов и спасительную силу именно детской молитвы. Так, мальчик в рассказе Веры Евтуховой искренне признается: «Я молюсь и кормлю голубков, чтобы у Боженьки было время вылечить моего дедушку!». На что героиня-рассказчица замечает: «Мне нечего было сказать этому маленькому воину Христову с такой большой верой в душе» [8, с. 16]. Концепт «чудо» не раз лексически обозначен в рассказе, автор завершает его очень точной формулой: «Ведь самое настоящее чудо рождества — то чудо, которое происходит в человеческом сердце» [8, с. 16].
Весь сборник в целом пронизан важным определением, в котором проявлено значение концепта «чудо». Его значение высказал протоиерей Константин Пархоменко в предисловии как «чудо исцеления души, чудо духовного возрождения» [11, с. 9]. Под чудом авторы сборника понимают что-то невероятное, фантастичное, но произошедшее в действительности, что-то, чего не могло быть, но осуществилось. Ко всем рождественским историям сборника применимы слова из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: « Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» (кн. 3, гл. III).
Таким образом, в рождественских рассказах, представленных в сборнике «Рождественское чудо» данный концепт выражен как на лексическом уровне, так и на событийно-содержательном. Для писателей важно не столько назвать чудо, сколько показать его положительное воздействие на окружающих, выраженное в динамике, движениях человеческой души. Чудо исходит не от неведомых сверхъестественных сил, а от самого человека, его веры в Бога, его способности проявить добро, любовь и сострадание к ближнему.
Список литературы Концепт чудо в рождественском рассказе (на примере сборника "Рождественское чудо")
- Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: от теории словесности к структуре текста: антология / под общ. ред. В. П. Нерознака. Москва, 1997. С. 147–165.
- Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е. Ф. Губский [и др.]. Москва: ИНФРА, 2006. 574 с.
- Словарь православной церковной культуры / сост. Г. Н. Скляревская. СПб.: Наука, 2000. 278 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва: АСТ, 2001. 992 с.
- Словарь синонимов русского языка. Ленинград: Наука, 1975. 648 с.
- Никитина Е. О концептуальном анализе в народной культуре // Логический анализ языка. Культурные концепты. Москва: Наука, 1995. С. 117–123.
- Карасик В.И. Языковые ключи. Волгоград: Парадигма, 2007. 519 с.
- Рождественское чудо. Рассказы современных писателей. М.: Никея, 2016. 240 с.
- Кучина Т. Г. Русская литература 2000-х годов на уроке литературы в старших классах // Взаимодействие вуза и школы в преподавании отечественной литературы. Ярославль, 2010, с. 28.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Образ. Символ. М.:, 1995: 418.
- Пархоменко К. Чудеса сегодня. Предисловие к сб. Рождественское чудо. Рассказы современных писателей. М.: Никея», 2016. 240 с.