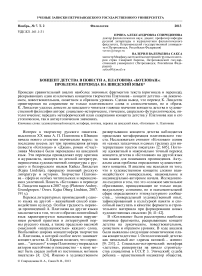Концепт детства в повести А. Платонова «Котлован»: проблема перевода на шведский язык
Автор: Спиридонова Ирина Александровна, Сакса Валерия Валерьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (136) т.2, 2013 года.
Бесплатный доступ
Проведен сравнительный анализ наиболее значимых фрагментов текста (оригинала и перевода), раскрывающих один из ключевых концептов творчества Платонова - концепт детства - на лексическом, повествовательном, сюжетном и образном уровнях. Сделан вывод, что перевод К. Линдстен ориентирован на сохранение не только платоновского слова и словосочетания, но и образа. К. Линдстен удалось донести до шведского читателя главные значения концепта детства в художественной философии автора: социально-историческое, этическое, сакрально-футурологическое, онтологическое; передать метафорический план содержания концепта детства у Платонова как в его утопическом, так и антиутопическом значениях.
Художественный концепт, метафора, поэтика, перевод на шведский язык, "котлован" а. платонова
Короткий адрес: https://sciup.org/14750511
IDR: 14750511 | УДК: 821.161.1-31
Текст научной статьи Концепт детства в повести А. Платонова «Котлован»: проблема перевода на шведский язык
Интерес к творчеству русского писателя-мыслителя ХХ века А. П. Платонова в Швеции начала нового столетия значительно вырос: за последние восемь лет три произведения автора (повести «Котлован» и «Джан», роман «Счастливая Москва») были переведены на шведский язык. Эти переводы принадлежат перу критика и журналиста, эксперта по детской литературе, переводчика художественной литературы с русского и белорусского языков Кайсы Линдстен (Kajsa Lindsten), прекрасно знающей русскую литературу и историю. Творчество Платонова – сфера ее особых читательских и переводческих увлечений. Повесть «Котлован» в переводе К. Линдстен вышла в 2007 году (Platonov Andrey. Grundgropen / Övers. Kajsa Öberg Lindsten, 2007. 191 s.).
Перевод литературных произведений с одного языка на другой – важнейший способ взаимодействия культур. Особая трудность перевода произведений А. Платонова на другие языки заключается в том, что его образно-понятийный язык характеризуется максимальным нарушением речевой практики и литературной нормы русского языка, а также предельно высокой смысловой «нагруженностью» каждого слова. Необычайно широка концептосфера творчества А. Платонова, в которой особое место занимает концепт детства. Л. Карасев полагает, что «принцип… “детского” в мире Платонова утверждался автором настойчиво и повсеместно – к нему может быть сведен любой из постоянных мотивов писателя» [4; 124]. Именно в художественном
развертывании концепта детства наблюдается предельная метафоризация платоновского текста. Исследователи считают «Котлован» одним из «самых загадочных и самых трудных для интерпретации текстов писателя» [2; 605]. Поэтому адекватный и максимально точный перевод концепта детства в «Котловане» на другой язык так важен для понимания произведения. Актуальна сама проблема определения художественного концепта. В анализе мы исходили из того, что в художественном концепте сложно взаимодействуют универсальное, национальное и индивидуально-авторское начала. Исследователи сходятся в том, что это «сложное ментальное образование, принадлежащее не только индивидуальному сознанию, но и психоментальной сфере определенного этнокультурного сообщества… универсальный художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти и способный выступать в качестве фермента и строительного материала при формировании новых художественных смыслов» [6; 41–42].
В «Котловане» были рассмотрены наиболее значимые фрагменты, раскрывающие концепт детства на лексическом, повествовательном, сюжетном и образном уровнях. В ходе анализа были выявлены следующие семантические планы концепта детства: 1. Онтологический: детство как начальный акт «драмы великой… жизни» [9; 253]. 2. Социально-исторический: метафора «детства», развернутая на начало строительства социализма в СССР. 3. Этический: судьба ребенка – нравственный индикатор общества.
4. Сакрально-футурологический: детство как более совершенная модель человечества.
Представляется важным гендерное содержание концепта детства в повести: как в системе детских персонажей, так и в повествовательной стратегии автора. В системе детских персонажей доминируют женские. Это позволило автору сюжетно и повествовательно связать концепт детства с культурно-историческим содержанием концептов «жизнь», «родина» и «Россия», а также придать ему сакрально-футурологическое содержание. Необходимо отметить, что в русском языке все три лексемы: «Россия», «родина», «жизнь» – имеют женский род, в то время как в шведском языке они принадлежат к среднему роду. Существенную роль здесь играет формальная категория рода: в шведском языке все существительные принадлежат либо к среднему, либо к общему роду. Названия городов, провинций, стран и континентов относятся к среднему роду, поэтому К. Линдстен перевела данные существительные, руководствуясь грамматическими правилами согласования шведского языка. Слово «родина» может переводиться на шведский язык несколькими вариантами: «hemland», «hembygd», «hemtrakt» или только наречием «hemma». При этом все они имеют общий корень «hem» («дом»). Это свидетельствует о том, что понятие «родина» в шведском языке (и шире – шведской культуре) тесно связано с темой дома и цивилизации, в то время как в русском языке лексема «родина» имеет общий корень с существительными «природа» и «народ». Строители в повести Платонова роют котлован для будущего «общепролетарского дома». Образ дома имеет расширенное символическое значение: это и дом «для детей», и город будущего, и социализм как новая политическая формация в рамках не только одной страны, но и в мировом масштабе. Так, чрезвычайно важная у А. Платонова идея дома как эквивалента нового жизнеустройства сохраняется и усиливается в шведском языке.
Мотивы сиротства, отсутствия семьи и дома – из постоянно звучащих в творчестве А. Платонова. «Бессемейные» (шв. «föräldralösa» – осиротевшие) дети появляются уже на первых страницах повести и лейтмотивом проходят через все произведение. Первая массовая сцена детства, изобилующая в описании метафорами, – марш сирот-пионерок. В экспозиции эпизода Платонов показывает детей, родившихся в годы Гражданской войны: «Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудность тела и красоты выражения» [8; 24]. Метафора «трудность немощи ранней жизни» говорит не только о тяжелых условиях, в которых дети растут, но и о «тяжести» самого роста: физического, психического и духовного. Сравнивая данную метафору с переводом на шведский язык: «präglades varje pionjärflickas ansikte av sjuklighet tidigt i livet» [10; 13] (дословно: «на лице каждой пионерки отпечаталась болезненность ранней жизни»), можно отметить, что в нем сохраняется платоновская двусмысленность: это не только физическая болезненность, но и психологическая неустроенность, а также «болезненность» социальных обстоятельств. Платоновское «не все дети имели кожу в час своего происхождения» трансформируется в «некоторые девочки были невы-ношенными в момент своего рождения» [10; 12]. Здесь уменьшается экспрессивность выражения. Прилагательное «невыношенный» по сфере употребления тяготеет к медицине, теряя тем самым эмоциональность. В то же время, как и в тексте оригинала, подчеркивается лютый голод социальной войны, когда матери пионерок «питались лишь запасами собственного тела». Существительное «происхождение» заменено в переводе на «рождение», тем самым акцент сделан на биологическом начале жизни. В таком варианте теряется коннотация социального происхождения, исторической связи / конфликта поколений. Писателю важно показать, что пионерки – сироты, сиротством «пролетаризированные» и очищенные от возможно классово чуждого прошлого. Это девочки, удочеренные революцией. Они, ровесницы Страны Советов, уже включены в социально-политическую жизнь: они – пионерки (в шведcком переводе – «pionjärflickor»). Переводчица поняла и передала мысль писателя, усилив женское начало путем сложения двух лексем – пионеры и девочки, в то время как русско-шведский словарь дает одинаковый перевод лексемы «пионеры» как в мужском, так и в женском варианте – «pionjär». Идут они военным «точным маршем», словно мальчишки, в матросках и беретах – все, как одна: идея равенства, полноценности, символически осуществленная в мужском гендере. При переводе на шведский язык прилагательное «точный» опускается, а существительное заменяется глаголом «маршировать». Глагол заменил номинативную конструкцию, но главное содержание сохранено: «марширующие девочки» передают «мужское», «милитаристское» содержание революционного движения общества в социалистическое будущее. Передан К. Линдстен и процесс деиндивидуализации. Менее удачно переведено словосочетание «мужающие тела», где не сохранен оксюморон (в переводе: «рано созревшие тела»). Образ «мужающих девочек» в оригинале – это и страховка природы, и социальный образец. Именно таким хочет государство видеть свое будущее.
Инвалид Жачев видит в девочках «нежность революции». Эта метафора в переводе на швед- ский трансформирована в «revolutionens ömtåliga plantor» (нежные/хрупкие ростки революции). Переводчик сравнивает детей с нежной молодой порослью, хрупкости девочек придан фло-ральный оттенок. При переводе словосочетания К. Линдстен учитывает контекст: в марше пионерок есть эпизод, когда одна девочка выбегает из строя и срывает полевой цветок. Главный герой Вощев хочет «жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью». Метафора «твердая нежность» относится по классификации О. Ахмановой к метафоре ломаной, то есть противоречивой (смешанной), приводящей к объединению логически несовместимых понятий [1; 54]. Платонов прибегает к использованию оксюморона («твердая нежность») для того, чтобы обозначить всю сложность жизни и ее восприятия. К. Линдстен использует словосочетание «beslutsam mjukhet» (решительная мягкость). Мягкость, в отличие от нежности, – свойство более физическое, нежели душевное. Однако перевод данного оксюморона можно рассмотреть и с другой точки зрения. Мягкость – вполне платоновский эквивалент слова «нежность». Ярко выраженная в переводе физическая характеристика важна в платоновском понимании и изображении детства. Необходимо также заметить, что лексема «мягкость» в переносном значении имеет психологический смысл (мягкосердечный человек, мягкий характер), а решительность поступков – вполне детское свойство. Детство совмещает в себе оба качества. И с этой позиции найденный переводчицей вариант точно передает концепт детства в повести «Котлован».
Главным детским персонажем повести и персонифицированной надеждой строителей на осуществление счастья и истины является девочка Настя. Она для них – живой символ будущего. Образ Насти соотносится с образом Божественного вестника, ангела, покровительствующего человеку. В атеистическом мире с ней и ее поколением строители связывают надежду на свое научное воскрешение в социалистическом будущем. Настя живет на котловане, «покинутая без родства среди людей». На социалистической стройке девочка вынуждена все время отрекаться от своего происхождения, скрывать, что ее мать Юлия – «буржуйка» (шв. – «kvinna från bor-gaklassen», дословно: «женщина из буржуазного класса»). Характеристика «покинутая без родства среди людей» на шведский язык переведена как «ensam och övergiven bland människorna» (одинокая и брошенная среди людей). Очевидно, что Настю нельзя считать брошенной: все строители без исключения заботятся о ней. Отступая от дословного перевода, К. Линдстен возвращается к основному мотиву Платонова – сиротству. Однако при переводе теряется важное в смысловом отношении платоновское «без родства», сигнализирующее о том, что государство, как ни старалось, не смогло заменить Насте родную семью и материнскую любовь.
Имя Анастасия с греческого переводится как «воскресшая / воскрешающая», означает возвращение к жизни [7; 48]. Однако судьба девочки трагически противоречит смыслу имени. Изначально образ Насти контекстуально оформлен семантикой смерти: это подвал, где умирает Юлия и вслед ей обречена и дочь буржуйки. Символичность этой ситуации отмечали многие исследователи, Н. Дужина пишет: «…по-весть А. Платонова посвящена судьбе России: умершая и оставленная лежать под спудом мать Насти символизирует вечную Россию, Россию историческую, ушедшую в прошлое без возврата; сама же Настя является символом новой советской России, ставшей “сиротой” без России исторической и по этой причине погибающей» [3; 94]. По мнению Н. Малыгиной, «в метафорическом развертывании концепта детства жертвой “будущей гармонии” становится самое будущее, воплощенное в образе Насти» [5; 40].
В эпилоге «Котлована» писатель выстраивает публицистически прямую образную параллель «девочка Настя – страна-эсесерша». Платонов выражает сомнение в правильности «генеральной линии», навязанной стране: «Погибнет ли эсесерша подобно Насте … » Все детали Настиной биографии, обстоятельства появления на котловане и смерть в аллегорической форме изображают безысходность разрыва национальной истории, тревогу автора за будущее родины и социализма. В переводе на шведский сравнение, итожащее образный параллелизм «Настя – эсе-серша», сохранено не в полном объеме. Вместо неологизма «эсесерша» дано официальное название страны – Sovjetunionen (Советский Союз), хотя в целом образная параллель: судьба девочки Насти – судьба Страны Советов в переводе К. Линдстен передана.
Очевидно, что в своей работе К. Линдстен пользовалась научным академическим изданием повести «Котлован» (2000), на что указывают наличие публицистического эпилога и полнота концепта детства в ее переводе. В этом смысле «поздний» шведский перевод К. Линдстен выгодно отличается от первых переводов повести на английский язык, так как сделаны они были с сокращенных, текстологически не выверенных публикаций «Котлована». При переводе К. Линдстен отдает предпочтение буквальному переводу, стремясь, однако, сохранить и донести до шведского читателя уникальный платоновский словообраз.
Наиболее частотно концепт детства реализован в «Котловане» посредством метафоры, которая становится концептуальным тропом, главным поэтическим механизмом в развитии темы детства. В процессе исследования были выявлены замены переводчицей метафоры другим тропом, например эпитетом или сравнением, а также пропуск отрывка, содержащего метафору. Однако случаи, когда метафора была не переведена тем же художественным приемом, обусловлены, как показал анализ, разным культурно-историческим опытом и соответственно языковым логосом двух народов.
Художественный перевод способствует диалогу культур, и роль переводчика здесь трудно переоценить. Насколько глубоко и точно пере- водчик овладеет не только языковой конкретикой произведения, но и «образным кодом» народа, с языка которого он переводит, а также «символическим пространством» языка автора, настолько успешен или неуспешен будет процесс культурной коммуникации. И здесь перевод К. Линдстен можно признать высококачественным, ибо в ее переводе до шведского читателя донесен очень важный у Платонова метафорический план концепта детства как в его утопическом, так и антиутопическом значении.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
Список литературы Концепт детства в повести А. Платонова «Котлован»: проблема перевода на шведский язык
- Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 3-е изд., стереотип. М.: Эдиториал УРСС, 2005. 576 с.
- Вьюгин В.Ю. Чевенгур и Котлован: становление стиля Платонова в свете текстологии//«Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: Наследие, 2000. С. 605-624.
- Дужина Н.И. Вымысел, основанный на реальности. Приметы сталинского быта в повести А. Платонова «Котлован»//Вопросы литературы. 2008. № 2. С. 79-114.
- Карасёв Л.В. Движение по склону: о сочинениях А. Платонова//Вопросы философии. 1995. № 8. С. 123-143.
- Малыгина Н.М. Спастись навеки в пропасти «Котлована»//Русская словесность. 1997. № 4. С. 36-41.
- Миллер Л.В. Художественный концепт как смысловая и эстетическая категория//Мир русского слова. 2000. № 4. С. 39-45.
- Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. М., 1966. 385 с.
- Платонов А.П. Котлован: текст, материалы творческой истории. СПб.: РАН ИРЛИ: Наука, 2000. 384 с. (Текст оригинала цитируется по этому изданию.)
- Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии. М.: Наследие, 2000.
- Platonov A. Grundgropen/Övers. Kajsa Öberg Lindsten. Stockholm, Ersatz, 2007. 191 s. (Шведский перевод цитируется по этому изданию.)