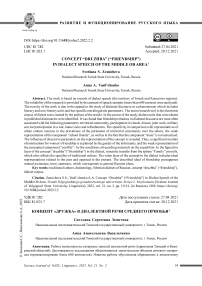Концепт «дружба» в диалектной речи Среднего Приобья
Автор: Земичева Светлана Сергеевна, Васильченко Анна Анатольевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Работа выполнена на материале записей диалектной речи (территория Томской и Кемеровской областей). Достоверность исследования обеспечивается значительным объемом речевого материала (проанализировано более 600 контекстов). Новизна работы обусловлена обращением к диалектному дискурсу как целому, включающему литературные и нелитературные единицы, а также имеющему специфические экстралингвистические параметры. Основным инструментом исследования является электронный корпус диалектных текстов, создаваемый авторами статьи и включающий диалектные единицы, отсутствующие в опубликованных словарях. Установлено, что отношения дружбы в диалектном дискурсе чаще всего связаны со следующими параметрами: территориальная общность, участие в обрядах, общий досуг, совместный труд, служба в армии / участие в войне, посещение дома и угощение. Специфика состоит в преобладании параметра территориальной общности над остальными, слабой представленности компонента «друзья по учебе», а также в неактуализированности компонента «приятельство». Обнаружено влияние дискурсивных параметров на репрезентацию концепта. Так, значительное число номинаций женской дружбы объясняется гендерным составом информантов, а невостребованность понятийного компонента «конфликт» - условиями записи материалов в экспедиции. В образном слое концепта «дружба» в диалекте преобладает семантический перенос из сферы «Семья», что также отражает специфику традиционной культуры. Ценностный слой концепта в диалекте включает идеальные представления, относящиеся к области прошлого и противопоставленные настоящему. Описываемый идеал дружбы предполагает взаимопомощь, доверие, открытость, что соответствует общерусским закономерностям.
Народно-речевая культура, диалектология, русские говоры сибири, концепт «дружба», диалектный корпус
Короткий адрес: https://sciup.org/149140056
IDR: 149140056 | УДК: 81'282
Текст научной статьи Концепт «дружба» в диалектной речи Среднего Приобья
DOI:
Дружба как один из национально-специфичных концептов неоднократно была предметом изучения на материале как русского, так и других языков [Арапова, 2004; Арапова, Гайсина, 2005; Вежбицкая, 2001; Вендина, 2020, с. 505–512; Иванова, 2020; Коняева, 2015; Приходько, 2016; Рябкова, 2013; Тарасова, 2007; Урысон, 2003; Хаметова, 2010; Шмелёв, 2005; и др.]. Подробный обзор работ на русском языке сделан Т.В. Леонтьевой [Леонтьева, 2016а]. Ею же проведен мотивационный анализ диалектных лексем, репрезентирующих понятие «дружба» в русских говорах [Леонтьева, 2011]. Установлено, что при обозначении дружбы в диалекте центральное положение занимает идея единства, важны также внешние проявления дружбы (в частности, хождение в гости). Кроме того, сделано интересное наблюдение-гипотеза: «информан-ты-диалектоносители произносят слово друг с осторожностью, легкой насмешкой, смущением, так что становится ясно: в их сознании смысл ‘духовная близость (о друзьях)’... то ли не актуализирован, то ли дискриминирован, то ли табуирован, то ли видоизменен, и это должно служить предметом отдельного исследования» [Леонтьева, 2016б, с. 346].
Этой цитатой вдохновлено появление настоящей статьи. Ее цель – описать пред- ставления о дружбе, реализованные в дискурсе носителей народно-речевой культуры. Новизна исследования обусловлена тем, что оно базируется на анализе целостных текстов (хотя это понятие к диалектному материалу применяется условно, поскольку он представляет собой письменную расшифровку устной речи). При этом в фокусе внимания оказываются не только собственно диалектные, но и литературные слова.
Добавим, что исследование семантики и функционирования общерусских слов, использующихся в диалектной речи, является одним из актуальных направлений диалектологии. Появление полных словарей (АОС, ВС, ПОС) показало, что многие единицы литературного языка в диалектной речи имеют смысловые особенности, нередко сохраняют архаические элементы значения [Грицкевич, Новиков, 2011; Демешкина, 2002; Нефёдова, 2010; и др.].
Материал и методы
Для данной работы важно понятие дискурсивной картины мира, которая рассматривается как «часть языковой картины мира, воплощенная в тексте, текстах, порождаемых в некоем типовом социально-психологическом контексте с типовыми коммуникантами» [Резанова, 2011, с. 26]. Дискурсивная картина мира предстает не только как система кон- цептов, объединяющая коммуникантов, но и как тип коммуникации, вплетенной в типовые ситуации социальной деятельности [Резанова, 2011, с. 42].
Дискурсивный подход в диалектных исследованиях был впервые заявлен в работе В.Е. Гольдина [Гольдин, 1997]. Диалект в рамках такого подхода понимается как устная разновидность языка, имеющая своеобразные социальные (речь сельских жителей старшего поколения) и коммуникативные (экспедиционные условия записи) характеристики [Демешкина, Тубалова, 2017; Ка-литкина, 2015; и др.]. Инициатором общения выступает диалектолог (собиратель), приехавший из города. Вместе с тем, как замечает Г.В. Калиткина, «в условиях диалога с “чужаком” рядовой носитель традиции выступает и носителем группового самосознания» [Калиткина, 2015, с. 170–171]. Коммуникативная ситуация чаще всего предполагает общение людей одного пола (женщины), различных по возрасту (молодые собиратели, пожилые информанты) и уровню образования (собиратели – студенты или преподаватели университета, информанты – малограмотные сельские жители). При этом превосходство собирателей по уровню образования отчасти компенсируется превосходством информантов по возрасту, что уравновешивает их позиции. Степень непринужденности разговора в экспедиционных условиях может быть разной и зависит как от ситуации, так и от личных качеств коммуникантов.
Концепты в данной работе понимаются как «ментальные образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [Карасик, 2009, c. 24]. Исследование диалектной речи с данных позиций представлено в ряде работ (см., например: [Вендина, 2020; Грицкевич, Новиков, 2011; Гынгазова, 2019; Демешкина, 2002; и др.]). Добавим, что анализ, проводимый на уровне концепта, позволяет выявить своеобразие жизненного опыта крестьян по сравнению с носителями литературного языка [Гынгазова, 2009; Иванцова, 2018], а также специфику ценностного слоя традиционной культуры [Гынгазова, 2006].
В.И. Карасик выделяет понятийную, предметно-образную и ценностную составляющие культурного концепта. Понятийная сторона концепта – это языковая фиксация концепта, словарная дефиниция репрезентирующих его понятий, его признаковая структура; предметно-образная составляющая концепта понимается как представление концепта в сознании индивида через ассоциацию с каким-либо предметом, качеством, событием; ценностная сторона концепта соотносится со значимостью этого феномена как для индивидуума, так и для коллектива [Карасик, 2002, с. 89–116]. Описание этих сторон, или слоев, концепта определяет методику настоящей работы. В ходе исследования использовались приемы контент-анализа, интерпретации, классификации, сравнения, количественных подсчетов.
Сбор материала проводился в 2 этапа: на первом из диалектных словарей (СРСГ, СРСГД, СС, COC) были выбраны единицы, в толковании которых есть лексемы с корнем - друг -/- друж -. Учитывались также данные «Идеографического словаря диалектной языковой личности» (ИСДЯЛ), включающего как диалектные, так и литературные единицы. На втором этапе отбирались контексты с этими единицами из Томского диалектного корпуса. Корпус представляет собой электронный ресурс на основе архива диалектных записей, сделанных с 1947 по 2019 г. на территории Среднего Приобья (Томской и Кемеровской областей). В настоящее время корпус насчитывает более двух миллионов словоупотреблений. Для данной статьи использовались, как правило, относительно поздние записи (сделанные с конца 70-х гг. по настоящее время и представляющие собой не отрывочные ответы на лингвистические опросники, а связные тексты воспоминаний о сельской жизни и быте, приближенные к естественной коммуникации, в том числе собственные экспедиционные записи авторов статьи объемом более 50 часов).
При сборе материала выбирались только те единицы, которые непосредственно относятся к понятию дружбы; номинации, относящиеся к другим семантическим полям (раздру′жба – ссора, друг – ‘возлюбленный’), не рассматривались в связи с тем, что они исследованы в работах предшественни- ков [Вендина, 2020, с. 505–512; Леонтьева, 2011]. Не учитывалось использование слов-репрезентантов концепта в фольклоре, так как он отличается от диалекта по ряду дискурсивных параметров.
Всего было собрано и проанализировано более 600 высказываний. В полученной выборке информантами в большинстве случаев выступают женщины (85 % текстов) в возрасте от 55 лет и старше. Уровень образования почти в половине текстов (42 %) не указан. Среди информантов, о которых эти сведения есть, представлены примерно в равных долях неграмотные (22 %), имеющие начальное (19 %) или неполное среднее (17 %) образование, реже отмечается полное среднее или среднее специальное (8 %), в отдельных случаях – высшее образование (2 %).
Результаты и обсуждение
Место концепта в диалектной концептосфере.
Частотные характеристики единиц
На основе собранных материалов было сформировано номинативное поле концепта «дружба» в диалектной речи Среднего При-обья, включающее более 30 единиц. К наиболее частотным относятся подружка (212 употреблений) 2, подруга (115), друг (90). Эти единицы образуют ядро концепта. Кроме того, частотные характеристики отражают гендерную диспропорцию материалов корпуса: преобладают номинации женской дружбы ( подруга , подружка ).
Промежуточное положение между ядром и периферией занимают номинации товарищ (67), дружный (65), дружно (62), дружить (37).
Чтобы определить место дружбы в диалектной концептосфере, приведем частотные характеристики некоторых других лексем, обозначающих социальные отношения. Несомненно, наиболее важной разновидностью социальных связей в диалектной культуре является родство (отец – 2465 употреблений в Томском диалектном корпусе, мать – 1794, муж – 1398, жена – 695); более частотны по сравнению с обозначениями друга также лексемы гость (340), со- сед (293), менее частотны единицы знакомый (85), враг (85). На основе этих данных можно предположить, что концепт «дружба» характеризуется меньшей коммуникативной выделенностью по сравнению с такими концептами, как «родство», «гостеприимство», «соседство».
Специфика номинативного поля концепта
В номинативном поле концепта обращает на себя внимание невербализованность понятия «приятельство» ( приятельница – 1, приятель – 0).
Некоторые из единиц, образующих периферию понятийного поля, отсутствуют в словарях современного литературного языка или характеризуются как устаревшие / просторечные: това ′ рка ‘подруга’ (7), дру ′ жливый / дружли ′ вый ‘ дружелюбный ’ (3), дружелю ′ -бый ‘дружный только с одним человеком’ (1), друже ′ ствый ‘дружеский’ (1), дру ′ жность ‘дружба’ (1), задружи ′ ться ‘подружиться’ (1), совет ‘дружба, согласие’ (1), сове ′ тно ‘дружно’ (1). Таким образом, хотя в номинативное поле концепта входят нелитературные единицы, основная часть их не имеет смысловых отличий от литературного языка.
Специфику традиционной культуры отражает использование имени прилагательного дружелю ′ бый :
-
(1) Дружелю ′ бый – есть такие, дружно живут. Две подруги вот какие дружелю ′ бые, никакого больше человека не принимают, самолюбки какие, только друг друга любите, а те нехорошие (Колп. Сар.) (CC, ч. 1, 1983, с. 96).
Это слово представлено в единичном примере, поэтому требует дополнительной верификации. В «Псковском областном словаре» обнаруживается глагол дружелю ′- бить , причем контекст сходен с представленным выше:
-
(2) Евреи друг друга дружелюбили, а наш на-рот не такой (ПОС, вып. 10, 1994, с. 15).
В обоих примерах заложена идея противопоставления малой группы коллективу в целом. Такое поведение не одобряется в тра- диционном обществе, что указывает на приоритет социальных отношений по сравнению с межличностными и согласуется с наблюдениями Т.В. Леонтьевой о специфике дружбы в диалектной культуре [Леонтьева, 2011, с. 204–205].
Кроме того, выборка текстов из диалектного корпуса позволила выявить 2 единицы, которые отсутствуют как в диалектных словарях среднеобского региона, так и в СРНГ: сдружа , отдружи ′ ть. Рассмотрим их подробнее.
Слово сдружа зафиксировано в единичном употреблении, без ударения:
-
(3) Немец венге ′ р, румын против нас пустил, болгар не пустил. Югославы сами защищались. Болгар немец совсем не пустил. Они – славяне, с нами сдружа (м., 1910 г.р.).
По всей видимости, это наречие, используемое в функции сказуемого (как сродни ); значение его можно сформулировать так: ‘находясь в дружеских отношениях’.
Глагол отдружи ′ ть также встретился один раз, но в достаточно развернутом контексте:
-
(4) Видели, дак собак уже сколько съел [волк]. С одной собакой дружил-дружил, напоследки съел её. В сенки ходил, дружил-дружил, а потом собаки не стало, съел, всё. [смеётся] Ну так отдружи ′ л, такой друг (ж., 1933 г.р., начальн.).
Сходный пример приводится в словаре В.И. Даля:
-
(5) Отдружил ты мне за добро худом, отомстил, воздал (Даль).
При этом значение, сформулированное в данном источнике (‘перестать дружить, не дружить более’) представляется не вполне соответствующим контексту. Завершение дружбы в обоих примерах – скорее следствие неких действий, обозначаемых глаголом. С учетом контекстов более точным было бы толкование ‘ответить на дружбу’. При этом в обоих случаях на дружбу отвечают злом; неясно, можно ли отдружить добром, то есть является ли эмоциональный компонент частью семантики слова или он факультативен.
Понятийный слой концепта
В рамках дискурсивного подхода, принятого в настоящей работе, для реконструкции структуры понятийного слоя концепта проводился не анализ словарных дефиниций, а контент-анализ высказываний. Они были классифицированы по тематическому основанию.
Результаты анализа показали, что концепт «дружба» в диалектном дискурсе включает следующие компоненты: 1) «территориальная общность»; 2) «совместное участие в обрядах»; 3) «праздники, общий досуг»; 4) «совместный труд»; 5) «совместная служба в армии / участие в войне»; 6) «посещение дома друга с обязательным угощением»; другие упоминаются реже. Значительную часть контекстов (около 40 %) не удалось отнести ни к одному из типов, так как в них номинации дружбы лишь упоминаются, но характер отношений не описывается подробно.
Далее рассмотрим каждый из названных компонентов.
-
1. Для диалектного дискурса очень важна дружба по принципу проживания на одной территории (70 примеров):
-
(6) Подруги, конечно, были. Мы вообще дружно жили на нашей улице (ж., 1933 г.р., ср. спец.);
-
(7) Деревня дружной была, вот Трёхусье [соседнее село], там недружный народ был (ж., 1939 г.р., неполн. ср.);
-
(8) Как мы стари ′ нны праздники справляли? От – Па ′ ска. К ей стряпали, готовили всё на свете. Гостей ждали. Гостей много понаезжа ′ ло из других деревень. Это как между деревня ′ ми дружба (ж., 1905 г.р.).
Круг тех, кого называют друзьями, может варьироваться у разных информантов: от проживания на одной улице (пример (6)) до населенного пункта в целом (7); в отдельных случаях эта граница может расширяться и за его пределы (8).
При встрече с земляками даже после долгой разлуки общаются близко и открыто:
-
(9) Маленько выпил чуть-чуть, друг старый. Десять лет не вида ′ лись мы. Сусе ′ д мой был. Попроведать заехал всех. Живёт, шахты там – Домба ′ сс (м., 1903 г.р., неграм.).
Таким образом, дружба в сельском социуме связана с понятием соседства.
В контексте проживания на одной территории затрагивается тема межнациональных отношений. В исследуемом регионе проживают представители разных национальностей, в их числе – коренные народы Сибири (селькупы, ханты, шорцы, эвенки и др., часто обозначаемые как остяки ′ , яса ′ шные ), а также татары, чуваши, мордва, евреи, ссыльные украинцы, немцы, поляки, прибалты и др. В дискурсе сибирских крестьян постулируется необходимость мирного сосуществования в условиях соседства разных этносов:
-
(10) И вот сколько народу жили, а народ дружный был. Дружно. Русский с остяка ′ ми не узна ′ шь. Приехал наш табун, русские и остяки ′ , не заметишь (м., 1879 г.р., начальн.);
-
(11) А, это, потом этих, латышей, присылали суда. <...> А потом им разрешили уехать, оне ′ все уехали на место. <...> Моя она подружка была, ну, она моло ′ денька была. Она меня, может, лет на десять, на пятнадцать моложе. Она мне то ′ ко недавно, с перестройки не стала. А то мне всегда пишет. (ж., 1928 г.р., неполн. ср.).
Лексема друг может использоваться как обращение к представителю другой национальности, чтобы показать свой настрой на сотрудничество:
-
(12) [А на русском разговаривали?] Разговаривали, ну «друг» – это всё от у них поговорка, они русских всё «друг», «друг» называли. Но остяки ′ тут были, от сам, целый посёлок был (м., 1907 г.р., начальн.).
-
2. Неотъемлемой частью традиционной культуры является обряд (59 текстовых фрагментов). Взаимосвязь концепта «дружба» с концептом «свадьба» проявляется в обозначении свадебных чинов ( дру ′ жка , дружко ′ , дружок и др.), на текстовом уровне также чаще всего упоминается о сватовстве, свадебном обряде:
-
(13) Ну ходил, приходил, сватал, конечно. [А кто приходил?] Друзья его. Мать и отец были (ж., 1926 г.р.);
-
(14) Утром, да, перед свадьбой. Моют в бане подружки, одевают, всё чисто на неё [невесту] (ж., 1921 г.р.);
-
(15) Украл себе невесту он. Поехал, познакомился, а на следующий день с товарищем поехали
и привёз её прям в холщовой юбке к дяде (ж., 1901 г.р., начальн.).
Другие обряды (похоронный, крестильный) упоминаются реже:
-
(16) В деревне дружили. Хре ′ сьбины были, отве ′ дки, когда родишь, уже к нам приходили, вот всё, все это хре ′ сьбины делали. Всё равно. Ну жили так в деревне дружно мы (ж., 1941 г.р., ср. спец.).
3. Для дружбы важно совместное проведение досуга (43 примера). Под досугом при этом понимается, во-первых, время отдыха от работы:
Отметим, что высокая частотность темы «Свадьба» обусловлена не только значимостью этого события, но и условиями сбора материала (в экспедиции вопрос о свадьбе задается чаще других).
-
(17) Пели. Мы с подружкой сильно хорошо пели. Таки ′ голоса у нас были. Тут ба ′ ушки одни, пойдём из клуба, когда поём, так одна ба ′ ушка выходила: «Ой, девчонки, так я не вытерпела, так и вышла». Шо вас слушать. Пели с ней хорошо (ж., 1929 г.р.);
во-вторых, календарные праздники:
-
(18) На Ма ′ сленке ката ′ лися на лошадях. У нас подружки были. Ка ′ жна должна свои круги откатать. Ой, в Ма ′ сленку ши ′ бко было в Богосло ′ вке весело! На конях, да ишо ′ и с гармошкой, как-то весело (ж., 1914 г.р., неграм.).
-
4. Совместная трудовая деятельность как объединяющее начало – частотное основание для дружбы (48 примеров):
В новых текстах упоминаются и семейные праздники, отмечаемые вместе с друзьями (день рождения, годовщина свадьбы).
-
(19) И вот у меня тоже подружка, она умерла, Тася, вместе с ей коров доили (ж., 1934 г.р., неполн. ср.).
-
5. В мужских текстах основанием для дружбы нередко является служба в армии или участие в военных действиях (30 примеров):
-
(20) После брали еγо [дядю] на кита ′ йску войну. Я уж больша ′ была. Дед еγо иконой блаγослав-лял: «Будь мужествен. Береγи друзей своих», а мир плачет (ж., 1901 г.р., начальн.).
По прошествии многих лет именно фронтовых друзей вспоминают как самых близких, даже если связь с ними прервалась:
-
(21) Был у меня один такой друг, под Москвой в тридцати километров город был Щёлко-в[о], вот задушевный был друг. Пили, ели, всё делили, письма читали, всё вместе и кода ′ он ещё живой был, где-то в Эстонии потерялся. Убило его говорят. <...> У меня адресу его не было. Я его и потерял, а с этим другом мы всё время переписывались до самого последу. <...> Хотелось свово ′ задушевного друга увидать, кака ′ у него жись, ведь ни разу я его после войны не встретил (м., 1915 г.р.).
6. Для поддержания дружеских отношений важно посещение дома друга (всего зафиксирован 21 пример):
-
(22) Ну а так у меня была подруга, она умерла раньше тоже. <...> И мы как сёстры, как родные с ней. Она ко мне ходила семьёй, а мы к ней (ж., 1933 г.р.).
В таких случаях переплетаются представления о дружбе и гостеприимстве. Отмечается, что друзья могут приходить в гости без приглашения:
-
(23) Вот, допустим, у меня сегодня там день рождения. Ко мне друзья идут, я их не приглашаю, они сами идут. А я уже знаю, что они придут, вот (ж., 1925 г.р., ср. спец.).
Обязательным атрибутом дружеских отношений в крестьянской среде является совместное застолье, причем не только во время праздников, но и в будни:
-
(24) Я пришла, допустим, к подружке – это были обязан, как говорится, садились и ели. Ко мне пришли, вот мои подружки – мы садились и ели. Никогда ничего не было запретного, чтобы пришёл и не накормили (ж., 1952 г.р., ср. спец.).
-
7. Совместная учеба как основание дружбы (14 примеров) появляется в поздних текстах, что отражает специфику условий жизни: для сельских жителей старшего поколения эта сфера либо представляет собой лакуну (учились мало, не учились вообще), либо переплетается с другими отношениями (по-
- нятие «одноклассники» совпадает с более широким «односельчане»):
Среди более редких компонентов концепта можно отметить следующие.
-
(25) Вот с ней мы дружили, мы и техникум с ней вместе заканчивали, она только уехала работать в Омутинский район Тюменской области, а я вот в Ханты-Мансийск, три года отработала там (ж., 1932 г.р., ср. спец.).
Кроме того, неактуальность связана и с возрастом информантов:
-
(26) Мы дружим, вместе. Учились с кем вместе там это, уже... уже я вот некоторых и не помню даже, с кем училась, что училась, так это вот, с кем видишься, того помнишь, а так уже забывать стала (ж., 1933 г.р., ср. спец.).
Вместе с тем в некоторых текстах упоминается, что друзья могли выступать в роли наставников, вне рамок учебных заведений:
-
(27) Училса [грамоте] самоу ′ ком от товарищей (м., 1884 г.р., начальн.).
8. В мужских текстах дружба связана с совместной охотой (6 примеров):
-
(28) Охотились они двое, с товарищем (м., 1927 г.р., неполн., ср.).
-
9. В отдельных случаях упоминаются общие шалости, объединяющие друзей:
-
(29) Никуды ′ шны щас стали [молодые], старух раньше боялись. Раз мы полезли с подругой за морко ′ вей, она спрыгнула и оттудова зацепилас за частокол и пове ′ силаса, ну над этой морко ′ вей со смеху умерли (ж., 1892 г.р.).
-
10. Обман, предательство, ссоры с друзьями упоминаются изредка:
-
(30) Пе ′ рво подружка моя была, потом су-пе ′ рница стала (ж., 1909 г.р., начальн.).
Неактуализированность последнего аспекта объясняется, по-видимому, условиями сбора материала (о конфликтах предпочитают не рассказывать малознакомым людям).
Таким образом, дружба мыслится в первую очередь как отношения между людьми. На периферии есть представление о дружбе с животными (пример (31)), а также о политических отношениях России с другими странами (32):
-
(31) А без собаки охотник не охотник, потому что он запаха не имеет никакого, а собака, это милое дело, правильно грят, что друг человека (м., 1923 г.р., неполн. ср.);
-
(32) Тода ′ меня в третий батальон назначили. У меня удостоверение было на медаль за взятие Праги. Под послед двадцать тысяч лошадей выгнали из Германии. Тепе ′ ря они там друзья, а мы тода ′ у них ко ′ ней отобрали (м., 1896 г.р., неграм.).
Основная «функция» друга – помощь, взаимовыручка.
Реже упоминается о том, что друг может научить чему-то, дать совет, оказать моральную поддержку:
-
(33) Мне подруга сказала: не смотри ни на что, выходи за него, парень хороший. Съездили в райисполком, залегистри ′ ровались (ж., 1902 г.р., начальн.).
Духовная близость, общие взгляды как основа дружбы упоминаются в единичных примерах:
-
(34) У нас была учительница по немецкому, мы с ней дружно жили, а она вроде это, верила, и я в Боγа верую с, с молодых лет (ж., 1934 г.р., начальн.). Вероятно, это обусловлено тем, что сельские жители в целом разделяют общую систему ценностей, поэтому выбор «друга по интересам» не актуален.
Эмоциональный аспект концепта «дружба» включает представление о совместно переживаемых положительных эмоциях (регулярно сочетаются в контекстах наречия дружно и весело ). Упоминается также о сочувствии к подруге, общем переживании горя (пример (35)), об уважении со стороны друзей, о любви к подруге (36):
-
(35) <Вперёд> вышла замуж подружка моя. Против жила. Выдали её за нелюбимоγо парня. Сильно богатой был. Да ёна не хотела, отец её бил, подружка моя красавица была, тоже сиротой росла <...> Да пошла подружка, я тожа плакала с ей. На е ′ йной свадьбе была (ж., 1901 г.р., начальн.);
-
(36) К Марии Брониславовне сходите! К моей подруге, она вообще интересно разгова ′ риват! Сходите к ней, она такая, это... она такая, мм, она хоро-
шая, она очень хорошая. <...> Я её люблю, это моя подруга, подруга это, можно сказать, чуть не сестра (ж., 1939 г.р., неполн. ср.).
Эмоциональный аспект нередко представлен через отрицание:
-
(37) Ну, жили так в деревне дружно мы, не было такого, чтоб там на кого-то зло такое, ненависть была такая, все жили (ж., 1941 г.р., ср. спец.).
В таких контекстах дружба понимается как отсутствие вражды, злонамеренности, зависти, жадности.
Таким образом, дружба в диалекте предстает прежде всего как деятельное участие в жизни другого человека. Представление о духовной связи, эмоциональные компоненты концепта, напротив, относятся к периферии. Эти выводы согласуются с наблюдениями Т.В. Леонтьевой.
Образный слой концепта
В соответствии с подходом, разработанным О.И. Блиновой и Е.А. Юриной, под образными понимаются единицы, характеризующиеся двуплановой семантикой, выраженной посредством метафорической внутренней формы. В их число включаются собственно образные слова, фразеологические и компаративные обороты (СОС, с. 6–7).
Номинативное поле концепта «дружба» в исследуемых материалах практически не включает слов с метафорической внутренней формой, за исключением единиц совет и со-ветно . Т.И. Вендина отмечает, что в подобных номинациях актуализируется компонент речевого взаимодействия, а следы прежнего значения сохраняются в традиционном свадебном пожелании «совет да любовь» [Вен-дина, 2020, с. 208].
К образному слою концепта «дружба» в речи сельских жителей Среднего Приобья можно отнести ряд сравнений (основная часть выявлена при анализе корпусных материалов, некоторые фиксируются в опубликованных словарях): как вроде одной семьёй, как два брата, как две сестры, как дочь родна′, как родные, как свои, как <на′званые> сёстры, лу′ч-че дочери родной. При моделировании данной сферы востребован перенос из сферы «родственные отношения». Сходные явления отме- чаются также в других говорах и типичны для диалектной культуры [Вендина, 2020, с. 509– 510; Леонтьева, 2011, с. 201–204].
Именно семья является для диалекто-носителя эталоном межличностных отношений, основанных на взаимовыручке, поддержке, доверии. Сфера дружбы характеризуется через сравнение с этим образцом:
-
(38) Но как-то жили все дружно [в посёлке], как, как вроде одной семьёй (ж., 1931 г.р.).
Особый интерес представляет словосочетание названые сёстры , характеризующее особенно близкие, доверительные отношения двух женщин-односельчанок, знакомых с детства:
-
(39) Мы не подруги, мы уж как на... на ′ званые как сёстры, с ней, сёстры. Машенька, мы всегда, встретимся, поцелуемся, друг друга мы (ж., 1939 г.р., неполн. ср.).
Эта номинация отсылает к отношениям посестримства (побратимства), которые представляют собой «искусственно создаваемые – через свободный, преимущественно, выбор и определенный обряд – отношения родства» [Громыко, 1991, с. 70]. М.М. Громыко отмечает, что обычай побратимства «отражает народный идеал духовной близости, максимально выраженного содружества» [Громыко, 1991, с. 89–90].
К образному слою концепта «дружба» можно отнести также атрибутивные лексемы, моделирующие дружеские отношения на основе представлений о физических свойствах ( крепко дружили ) или пространственных категориях ( близкие друзья ). Имя прилагательное задушевный указывает на связь исследуемого концепта с духовным началом в человеке. Эти модели типичны для русской языковой картины мира в целом.
Ценностный слой концепта
В работе О.А. Араповой дружба характеризуется как нормативный концепт. «Обыденное сознание трактует его в модусе долженствования, а не бытия» [Арапова, 2004]. В диалектном дискурсе о дружбе можно выделить и «модус реальности», и «модус долженствования». К пер- вому из них относится большинство примеров, приведенных выше.
Представление о должном актуализируется через базовую для традиционной культуры оппозицию «раньше – теперь». При этом тексты, реализующие ее, записаны в разные временны ′ е периоды – с конца 60-х гг. по настоящее время . Независимо от даты записи текстов, прошлое идеализируется. Описываемый идеал дружбы включает прежде всего представления о взаимопомощи и бескорыстии:
-
(40) Ну жили всё мы очень дружно. Если горе случи ′ лося, то всей деревней помогали. Если похороны были, свадьба, уже всей деревней (ж., 1934 г.р., начальн.).
В современности, по мнению информантов, эти ценности исчезают:
-
(41) Раньше дружне ′ люди жили, пособляли друг дружке, щас не допро ′ сисся, к кому пойти – им всё некогда (м., 1903 г.р., неграм.).
Дружба связана с понятиями доверия, открытости, воспринимаемыми как утраченная ценность:
-
(42) Хорошо жили, дружно жили люди, мы никогда не закрывались на ночь! Вот в Карасях помню, я никогда даже привычки не имела, чтоб я на ночь дверь закрыла (ж., 1925 г.р., ср. спец.).
Трансформация народной культуры ведет к исчезновению традиций гостеприимства, застолья:
-
(43) М.И. А щас да, а щас, ведь γо ′ споди, боятся каждый к себе позвать. То паласы затопчут, то шторы порвут, то ишо ′ что-нибудь.
Л.А. То много съедят [смеются].
М.И. То много съедят, да-да-да, всё (ж., 1931 г.р.).
Современность характеризуется как время разрушения этических норм, традиционное застолье превращается в пьянство:
-
(44) А тапе ′ рь-то жи ′ зня не глянется нам, щас всё не так, раньше и гуляли весело, дружно, а щас мужики напьются, режутся, не ндра ′ вится нам это (ж., 1896 г.р., неграм.).
Не одобряется и другая крайность – отсутствие друзей, которое, по мнению старшего поколения, характерно для молодых:
-
(45) Я вот щас про своих про молодых, чё им, по двадцать три года, у них никаких, чтобы они там вечером куда-то собрали ′ сь, сказали: «Баба, ну посиди», девчонка уснёт, куда-то бы сходили, с друзьями посидели – не-ет, им не надо. <...> Их почему-то никуда не ма ′ нит, они никуда, у них нет ни друзей, никаких ни схо ′ дбищев, ничё нету у них. А мы нет, мы время проводили, у нас хватало время и на это дело. Погу-лять-то тоже, находили время (ж., 1927 г.р., неполн. ср.).
Таким образом, практически во всех приведенных выше контекстах репрезентанты концепта «дружба» имеют позитивные коннотации, однако в редких случаях (14 высказываний, что соответствует около 3 % проанализированного материала) отмечаются и негативные.
Первая группа таких примеров – рассказы о неподобающем поведении, где обозначения друзей могут приобретать коннотации осуждения:
-
(46) Галя [дочь] у меня тут свихну ′ лася без меня, нашлись подружки гуля ′ шшые, куря ′ шшые. От она пошла не по хорошим путям (ж., 1943 г.р., начальн.).
В этих случаях речь идёт о друзьях не самогó информанта, а членов его семьи; не одобряется пьянство, курение, распутство, в которое родственника вовлекают такие друзья.
Вторую группу образуют контексты, где обозначения друга или подруги используются как обращения с оттенком иронии.
-
(47) Беру я снимаю башмаки свои (а переход с здания в здание небольшой). Грязными башмаками, как будто кто-то по потолку прошёл. И с чистой совестью сидим в спортзале. Ну и все идут: о, а-ха-ха, о, кто-то прошёл, о, вот. Ну а чё, у нас Сан Саныч был, вёл там электрическую централизацию. <...> «Ну-ка идите сюда, друзья, чья работа?» (м., 1950 г.р., ср. спец.);
-
(48) Аксинья мылась, мылась у меня в бане зимой, а потом и говорит: «Ты знашь чё, доро-га ′ това ′ рка, я у тебя в бане заразилась. Сыпь изде ′ лалась» (ж., 1909 г.р., начальн.) (ПСДЯЛ, т. 4, 2012, с. 184).
В таких случаях негативные коннотации обусловлены жанром (чаще всего это упрек).
Однако существование примеров подобного рода не ограничено рамками диалектно- го дискурса. Так, использование диминутива дружок в качестве иронически-неодобри-тельного обращения фиксируется в словаре С.И. Ожегова (с пометой «просторечное») (Ожегов) (ср. также форму множественного числа дружки, имеющую явные негативные коннотации).
Таким образом, согласно нашим наблюдениям, негативные коннотации у репрезентантов концепта «друг» нерегулярны и ситуативно обусловлены. Они не существуют изолированно, а проникают из диалекта в другие подсистемы языка.
Выводы
Концепт «дружба» в диалектной речи тесно связан с наиболее важными сферами жизни крестьянина: семьей, работой, обрядом, домом, едой, при этом по сравнению с другими видами социальных отношений дружба характеризуется слабой коммуникативной вы-деленностью, что отражается в меньшей частотности репрезентантов концепта.
Ядро понятийного поля концепта в диалектной речи совпадает с литературным языком, на периферии отмечаются единицы, которые находятся за его рамками. Результаты контент-анализа высказываний диалектного дискурса показали, что дружба в сознании коммуникантов прежде всего связана с общностью территории (21,2 %), обрядами (17,8 %), совместным трудом (14,4 %) и досугом (12,9 %); эти результаты отражают своеобразие традиционной культуры, ее характерные ценности. Реже упоминаются служба в армии и участие в военных действиях (9 %), учеба (4,2 %), охота (1,8 %), совместные шалости (1 %), конфликты (1 %). Как представляется, неактуальность компонента «друзья по учебе» обусловлена особенностями жизни, а также возрастом информантов и может рассматриваться как одна из характерных черт диалектного дискурса. Невостребован-ность понятийного компонента «конфликт» объясняется, по-видимому, экспедиционными условиями записи речи.
В сравнении с литературным языком выявлена лакуна: неактуально для диалектного дискурса понятие «приятельство». Можно предположить, что крестьянский социум в целом формирует достаточно сильные связи между его членами, поэтому представление о слабых связях оказывается неактуальным.
В образном слое концепта преобладает семантический перенос из сферы «семья», которая занимает ведущее положение в диалектной концептосфере. О.А. Арапова и Р.М. Гайсина отмечают, что подобный семантический перенос «представляет собой регулярное ментальное образование, свойственное обыденному сознанию рядового носителя русского языка и в настоящий момент активно эксплуатирующееся в сфере жаргонного словоупотребления ( братва , братки , братан )» [Арапова, Гайсина, 2005, с. 70].
Для ценностного слоя концепта в диалекте характерно наличие идеальных представлений, которые относятся к области прошлого и противопоставлены настоящему. Описываемый идеал дружбы предполагает взаимопомощь, доверие, открытость. Такие представления типичны для русской языковой картины мира в целом.
Полученные результаты позволяют уточнить наблюдения о специфике концепта в диалекте, сделанные Т.В. Леонтьевой при исследовании словарного состава русских говоров. Подтверждается вывод о том, что в диалектном дискурсе внешние проявления дружбы (совместная деятельность, взаимопомощь) упоминаются чаще, чем внутренние переживания. Однако необходимо отметить, что эмоциональный аспект все же представлен: дружба связана как с позитивными чувствами (веселье, радость, любовь, доверие), так и с негативными (совместное переживание горя).
Понятие «друг» может приобретать негативные коннотации (в частности, в жанрах порицания или упрека), но число таких примеров невелико (около 3 % высказываний). Таким образом, предположение Т.В. Леонтьевой о том, что репрезентанты концепта «дружба» в диалекте часто окрашены насмешкой, иронией, не подтверждается количественными данными. В большинстве случаев дружба воспринимается нейтрально или позитивно.
Список литературы Концепт «дружба» в диалектной речи Среднего Приобья
- Арапова О. А., 2004. Концепт «дружба»: системный и функционально-когнитивный анализ : дис. ... канд. филол. наук. Уфа. 242 с.
- Арапова О. А., Гайсина Р. М., 2005. Дружба // Антология концептов. Т. 1 / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Волгоград : Парадигма. С. 58-80.
- Вежбицкая А., 2001. Понимание культур через посредство ключевых слов. М. : Яз. слав. культуры. 288 с.
- Вендина Т. И., 2020. Антропология диалектного слова. М. ; СПб. : Нестор-История. 684 с. DOI: 10.31168/4469-1776-1.
- Гольдин В. Е., 1997. Теоретические проблемы коммуникативной диалектологии : дис. ... д-ра филол. наук в виде науч. докл. Саратов. 52 с.
- Грицкевич Ю. Н., Новиков В. Г., 2011. Концепт «мода» в диалектном дискурсе // Вестник Псковского государственного педагогического университета. Серия: Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. N° 15. С. 77-80.
- Гынгазова Л. Г., 2006. О концепте «Воля» в индивидуальном сознании носителя традиционной речевой культуры // Актуальные проблемы русистики. Вып. 3. Языковые аспекты регионального существования человека. Томск : Изд-во Том. ун-та. С. 220-229.
- Гынгазова Л. Г., 2009. Ценностная картина мира диалектоносителя: к проблеме лакунарности // Лакунарность в языке, картине мира, словаре и тексте : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Т. И. Стексовой. Новосибирск : Изд-во НГПУ. С. 115-122.
- Гынгазова Л. Г., 2019. Ключевые концепты традиционной народной культуры в речевых практиках сибирской крестьянки // Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах (XIX - начало XX в.) / под общ. ред. И. А. Айзиковой. Томск : Изд. дом ТГУ. С. 55-95.
- Громыко М. М., 1991. Мир русской деревни. М. : Молодая гвардия. 270 с.
- Демешкина Т. А., 2002. Способы описания концептов диалектной культуры // Картина мира: модели, методы, концепты : материалы Все-рос. междисциплинар. шк. молодых ученых (Томск, 1-3 нояб. 2001 г.). Томск : Нац. исслед. Том. гос. ун-т. С. 59-67.
- Демешкина Т. А., Тубалова И. В., 2017. Диалектный дискурс как сфера реализации национальной культуры: константы и трансформации // Вестник Томского государственного университета. Филология. № 50. С. 36-54. DOI: 10.17223/19986645/50/3.
- Иванова М. А., 2020. Концепт Freundschaft (Дружба) в виртуальной коммуникации // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 19, № 4. С. 99-108. DOI: https://doi.Org/10.15688/jvolsu2.2020.4.9.
- Иванцова Е. В., 2018. Вариативность реализации ключевого концепта ХЛЕБ в разных типах русской речевой культуры // Актуальные проблемы и перспективы русистики : материалы по итогам Междунар. конф. русистов в Бар-селон. ун-те (Барселона, 20-22 июня 2018 г.). Barcelona : Trialba Ediciones. С. 1172-1181.
- Калиткина Г. В., 2015. Трансляция традиции в диалектном дискурсе // Концепты культуры. Библиотека журнала «Русин». № 3. С. 167-182. DOI: 10.17223/23451734/3/13.
- Карасик В. И., 2002. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена. 477 с.
- Карасик В. И., 2009. Языковые ключи. М. : Гнозис. 406 с.
- Коняева Е. В., 2015. Модификаты концепта «дружба» в русском языке конца XX - начала XXI вв. : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург. 24 с.
- Леонтьева Т. В., 2011. Средства номинации понятий «друг», «дружба», «дружить» в русских народных говорах: мотивационный анализ // Язык Текст. Дискурс. № 9. С. 196-207.
- Леонтьева Т. В., 2016а. Лексика дружбы: перспективы изучения // Социокультурное пространство России и зарубежья: общество, образование, язык. № 5. С. 71-78.
- Леонтьева Т. В., 2016б. Оценка поведения человека в костромских говорах: коммуникативный аспект // Динамика традиции в региональном измерении. Трансформационные процессы в культуре и языке Костромского края / отв. ред. и сост. И. А. Морозов, И. С. Слепцова. М. : ИЭА РАН. С. 345-346.
- Нефедова Е. А., 2010. Общерусское слово в диалектном словаре // Межкафедральный словарный кабинет имени проф. Б.А. Ларина / отв. ред. А. С. Герд, Е. В. Пурицкая. СПб. : Филол. фак. СПбГУ С. 92-102.
- Приходько В. К., 2016. Лексические средства выражения концепта «дружба» в русских говорах Приамурья // Россия в мировом сообществе: смысловое пространство диалога культур : материалы Междунар. форума «Восточный вектор миграционных процессов: диалог с русской культурой» / отв. ред. Е. В. Кулеш. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та. С. 249-254.
- Резанова З. И., 2011. Дискурсивные картины мира // Картины русского мира: современный ме-диадискурс / под ред. З. И. Резановой. Томск : ИД СК-С. С. 15-94.
- Рябкова Е. С., 2013. Способы описания концептов позитивных межличностных отношений: концепты «друг», «дружба» // Вестник Челябинского государственного университета. № 10 (301). С. 88-91.
- Тарасова А. В., 2007. Понятийные характеристики концепта «друг» в русском и английском языковом сознании // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия: Филологические науки. №2 5 (23). С. 28-31.
- Урысон Е. В., 2003. Друг, товарищ, приятель // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., испр. и доп. М. : Шк. «Яз. слав. культуры». С. 297-299.
- Хаметова М. Ф., 2010. Национально-культурные особенности концепта «дружба» в англоязычной картине мира // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. № 1 (177). С. 97-101.
- Шмелев А. Д., 2005. Дружба в русской языковой картине мира // Зализняк Анна А., Левонти-на И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи языковой картины мира. М. : Яз. слав. культуры. С. 289-303.