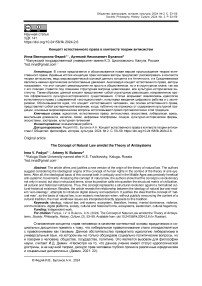Концепт естественного права в контексте теории антисистем
Автор: Федяй И.В., Буланов А.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается и обосновывается новая версия происхождения теории естественного права. Идейные истоки концепции прав человека авторы предлагают рассматривать в контексте теории антисистем, ведь мировоззренческой основой данного концепта и в Античности, и в Средневековье являлись именно еретические антисистемные движения. Анализируя концепт естественного права, авторы показывают, что этот концепт революционен не просто в общественном, но и в структурном плане, так как с его позиции ставится под сомнение структурная матрица цивилизации, все культурно-исторические институты. Таким образом, данный концепт представляет собой структурную революцию, направленную против оформленного культурно-исторического существования. Статья вскрывает взаимосвязь идеологии естественного права с современной «эко-идеологией», попытками введения цифрового рабства и с эзотеризмом. Обосновывается идея, что концепт «естественного человека», как основа естественного права, представляет собой эзотерический механизм, когда, публично не отрекаясь от содержания культурной традиции, основные мировоззренческие вопросы истолковывают прямо противоположно этой традиции.
Идеология, естественное право, антисистема, экосистема, либерализм, ересь, ментальная доминанта, насилие, связи, цифровые платформы, социум, культурно-исторические формы, экосистемы, эзотеризм, культурная гегемония
Короткий адрес: https://sciup.org/149145341
IDR: 149145341 | УДК: 141 | DOI: 10.24158/fik.2024.2.6
Текст научной статьи Концепт естественного права в контексте теории антисистем
Проблема идейных истоков концепции прав человека на данный момент представлена двумя точками зрения. Одна из них, как западная (Финнис, 2012), так и отечественная1, связывает генезис идей прав человека и правового государства с античной полисной системой, в которой впервые зарождается само понятие гражданства2. Другая считает, что истоком идеологии прав человека является христианство. «Христианский универсализм, – пишет Ален де Бенуа, – будучи безграничным, содержит в зародыше последующую идею всеобщего равенства» (Бенуа, 2009: 345). Мы предлагаем третью точку зрения на происхождение данной концепции.
Естественное право основывается на концепте «естественного человека». Поэтому понять его можно, только разобравшись с «естественным человеком». «Естественный человек», или биообъект в терминологии современных глобалистов – это несуществующая абстракция, очищенная от почвы, расы, пола. Причем естественный человек, как концепт – это человек, взятый не просто в изоляции от социально-культурной среды, но и в противопоставлении ей. Просто изолированный человек – это случайный «маугли», а вот изоляция в качестве концепта придает парадигмальный статус этой «естественности», создавая специфическую эпистему.
Принято считать, что концепт естественного человека является некоей абстракцией, в реальности не встречаемой. Французский философ Ален де Бенуа в статье, опубликованной в сборнике с очень характерным названием «Мужество ради идентичности» и озаглавленной «Религия прав человека», писал: «Человек, которого охраняет идеология прав человека, – не опирается на почву. У него нет наследия и принадлежности – или он хочет разрушить и то, и другое. Этому человеку очень хочется, чтобы и другие тоже стали бы ни с чем не связанными. Он охотно видел бы, как они отказываются от собственного наследства и становятся лунатиками»3.
Однако это – заблуждение. Естественный человек, как «чистое», полностью изолированное и противопоставленное социально-культурной среде существо, имеет в этой среде и реальное воплощение. Это – рабство.
По Д. Грэберу рабство – это социальная смерть (Грэбер, 2021: 169–170). Быть социальным мертвецом – означает, что раба ни с кем не связывают нравственные отношения: «… он оторван от своих предков, общины, семьи, клана, города». Рабство есть крайняя форма выдавливания человека из связей, сотканных взаимными обязательствами и коллективной ответственностью, делающих людей такими, какие они есть, и превращения их в предметы обмена (Грэбер, 2021: 164). «… только при помощи палок, веревок, копий и ружей можно вырвать людей из бесконечно сложных сетей отношений с другими (с сестрами, друзьями, соперниками и т. д.), которые делают их уникальными, и превратить в нечто, чем можно торговать» (Грэбер, 2021: 207). Таким образом, «естественное состояние» – это состояние совсем не естественное, это –состояние рабское. И ввести в это состояние человека можно только насилием.
Реальный человек представляет собой уникальное сплетение отношений с другими людьми. Поэтому рабство – это насильное выдавливание человека из его среды, насильное его обезличивание. А «царство безличного – ад» (Кошен, 2004: 235). Получается, что это «естественное», или рабское, на самом деле, состояние – всегда вторично, противоестественно и связано с насилием.
Но здесь – нюанс: рабство – это насилие, которое мы различаем ! Возможность данного различения обусловлена наличием качественной социальной среды с ментально-содержательными связями. Но ведь насилие можно сделать неразличимым . То есть рабство можно сделать всеобщим, возвести его в систему, уничтожив при этом само понятие рабства. Каким образом? Да просто не людей вырвать из среды, сотканной из нравственных культурно-исторических связей, а саму среду очистить от качества – обезличить. Уничтожить саму нравственную среду, обезличив все социальные связи. Этим обезличиванием уничтожается сама возможность свободы. Все рабы, но рабство неразличимо, ибо сравнить не с чем.
Таким образом, рабство становится системным при переводе его из элементов в связи. Концептуально это выхолащивание качества из социальной среды как раз и проводится теорией естественного права. Поэтому целью глобальных рабовладельцев всегда являлось уничтожение именно различающей среды или общества, связанного общими ценностями и коллективной ответственностью. «Диктатура, – утверждал О. Шпенглер, – возможна только во внеисторическом, внекультурном и внесословном состоянии масс» (Шпенглер, 1999: 553).
Концепт «естественного» человека представляет собой отрицательный универсализм, построенный на отсутствии качества. Поэтому свобода в этой парадигме «естественности» начинает пониматься исключительно в количественном плане, как свобода покупать и продавать, а люди становятся предметами обмена. То есть создание однородной человеческой «биомассы» происходит на основе теории «естественного человека» и «естественного права». Только в контексте естественного права свобода начинает трактоваться как собственность – ее можно продавать, ссужать, менять точно так же и на тех же условиях, как и любую другую собственность. Это и становится рабством, возведенным в систему. А значит, в основе рабства лежит не просто насилие, как считает Д. Грэбер, а структурное неразличение, введенное теорией естественного права.
Настоящая свобода всегда представляла собой возможность вступать в нравственные отношения с другими людьми. Современные же представления о правах и свободах происходят от того, что вошло в историю как «теория естественного права», считает Д. Грэбер (2021: 205). Свобода для сторонников этой теории понимается как собственность, которой можно обмениваться точно так же, как и любой другой собственностью. Из чего следовало, что в долговой кабале, или даже в рабстве, в принципе нет ничего дурного! Именно это и стали доказывать сторонники естественного права. Затем подобные идеи легли в основу экономической жизни, в теорию государства и права. Та же логика стала применяться и по отношению к нашим телам (Грэбер, 2021: 206). И тогда выдавливать становится некого и неоткуда – все рабы. Однако, находясь в пара-дигмальной эпистеме естественного права, не знают об этом, ибо сравнивать не с чем.
Рабство не похоже на прочие человеческие отношения, утверждает Д. Грэбер, так как оно не нравственно, то есть обезличено. А на что похоже? Рискнем предположить – на ересь и следующий за ней процесс сектантской изоляции, то есть на антисистему. В структурном плане ересь (антисистема) – это нечто низшее, вторичное, паразитическое по отношению к культурным системам. Различие между ними не содержательное (у ереси нет своего содержания), а структурное. Ересь отслаивает психическую индивидуальность от социальных институтов. В результате, все находящееся вне культурно-исторических форм, а значит, и вне идентичности (хаос религиозный, расовый, гражданский, гендерный, а сегодня уже и видовой в идеологии трансгуманизма) обозначается понятием «естественное» и считается Божественным; в то время как все традиционно оформленное и институционализированное понимается как искусственное.
Таким образом, неразличающая операционная среда (антитрадиция, антисистема), как «естественная», противопоставляется различающей культурной среде (традиции) – как рукотворной. То есть все социальное психологизируется, сводится к психическому, а это психическое затем биологизируется – сводится к просто биологическому. В результате мы получаем некое «естественное», которое далее становится основой уже обратного пути, то есть из него объясняют появление психического, а далее – социального. Круг закольцовывает сам себя. Перефразируя С.Г. Кара-Мурзу, можно сказать, что из антисистемной идеологии понятие «естественного», как нейтрального (ибо индивидуально изолированного, «очищенного»), переносится в научную эпистему, чтобы затем уже в статусе научности обосновывать либеральную идеологию. Это и выражается в идеологии естественного права.
Поэтому в Античности идея естественного права впервые появляется именно у софистов. Софисты представляли антитрадиционную (просвещенческую) парадигму. Положив в основу своих рассуждений нравственный и гносеологический релятивизм, субъективизм и эгоизм, софисты отделили политическое и правовое измерение как «искусственные» от природного – «естественного» – и на этом основании отвергали нравственные основы политики и права. А значит, генезис идеи прав человека нужно связывать не с античной полисной системой, а с антисистемой, противополагающей себя системе полисной. Антисистемы культур не создают, богатствами природы пренебрегают и гнездятся в телах этносов, как раковые опухоли в живых организмах. Традиции их передаются вне семей, от учителей к ученикам. А разница между традициями «живыми», усваиваемыми при детском воспитании, и традициями «сделанными», понятийными, такая же, как между организмами и вещами (Гумилев, 1993: 254).
То же самое можно сказать и об эпохе Средневековья, где источником естественного права стало именно еретическое реформационное движение. Христианские ереси исходили из дуалистического мировоззрения, из противопоставления Бога и Церкви, а значит, и «естественных» законов, как божественных, законам церковным. Это противопоставление «естественных» законов, как божественных по своему происхождению, законам церковным с полной ясностью выражает «новое» секуляризованное сознание, где мирская жизнь признается самодостаточной и автономной, а само понятие греха означает лишь совершение «вредных» человеку действий (Зень-ковский, 1991: 91–92).
А значит, субъектом теории естественного человека и его естественных прав являются антисистемы!
Цель антисистемы – создание всеобщей обезличенной среды, где под именем тысячи различий (мультикультурализм) исповедуется единый принцип неразличения («толерантность»).
И происходит это всегда в системе хозяин – паразит, то есть при освоении паразитическим субъектом чужого культурно-антропогенного ландшафта. Почему? На этот счет можно привести интересное наблюдение Д.Д. Фрэзера об одном древнем обычае: «Вступая в незнакомую страну, дикарь испытывает чувство, что идет по заколдованной земле и принимает меры для того, чтобы охранить себя как от демонов, которые на ней обитают, так и от магических способностей ее жителей. Так, отправляясь в чужую страну, маори совершают обряды для того, чтобы сделать ее мирской » (Фрэзер, 1986: 191).
То есть стремление сделать страну мирской, формально-безличной или юридической, с первичностью именно безразличного, юридического момента – это исконное стремление всех чужаков. Причем чужаков не столько этнических, сколько антисистемных, преступающих общенародную, культурно-историческую традицию. Обезличивание всех системных норм им необходимо, чтобы обезопасить себя. Ибо при этом любая частная сектантская ложь уравнивается в правах с выстраданной культурно-исторической традицией, любая патология – с нормой. Ведь все системные нормы носят непременно личностный, качественный характер, то есть определяются содержанием конкретной традиции. А обезличивание их ведет к тому, что отношение людей внутри системы рационализируются как отношения чужаков. Недаром именно основное направление еврейского права (евреи являлись чужаками во всех системах, причем чужаками не столько этническими, сколько структурными (Гумилев, 1993)) и проложило дорогу безличному, вещественному пониманию правовых отношений (Зомбарт, 2004). А боролись за внедрение данной программы всегда еретические, реформационные круги (в России, например, основные идеи этого права проповедовали все секты, начиная еще со стригольников1).
Отстраненное управление чужаков возможно только в атомизированном нормами естественного права обществе. Об этом же, то есть о стремлении насильственно установить это «естественное» состояние, – однородной и изолированной массы индивидов – как главном условии непобедимости якобинского террора, пишет и О. Кошен: «Этот революционный порядок держится только разрушением реального порядка» и эта система «непобедима для управляемых при двух условиях: если они «освобождены» в отрицательном и демократическом смысле слова, то есть разделены, изолированы и с этих пор беззащитны. И во-вторых, эта расчлененная масса должна быть однородной, чтобы политическая арифметика надзора имела дело с величинами одного порядка» (Кошен, 2004: 257–258). Так устанавливается порядок на анархических (беспочвенности, однородности и изолированности) принципах. То есть происходит рационализация распада и атомизма. «Здесь – целая система управления, основанная на алчности, слежке, ненависти, примеров действия которой можно привести сколько угодно, и которую можно, подводя итог, назвать “чужеродным правлением”» (Кошен, 2004: 259–260).
Чтобы обосновать претензию на гегемонию данных чужаков перед традиционной элитой, надо формализировать управление, «очистить» от связи с реальностью и сделать особой профессией. Отделить смысловую, формирующую сферу от реальности. Сделать реальность бессмысленной, а смыслы – нереальными, шаблонными. Мировоззренческую платформу для этого конструировал в свое время и «наш» Г.П. Щедровицкий. Это так называемая «методология» (мыследеятельность), закрепляемая разными комбинациями организационно-деятельностных игр (ОРИ). Суть этой теории в следующем: в атомизированном обществе людям-акторам отказывается в праве на субъектность, самоорганизация не допускается, вся их активность сводится к регламентированной деятельности. А демиург-управленец полностью абстрагируется от управляемой системы, управляя указами и инструкциями. Конечная цель – цифровая мега-система нормативных актов, которыми управляет в глобальном масштабе искусственный интеллект.
Поэтому антисистемы использует и прозелитизм особого типа. О специфике данного прозелитизма писал профессор С. Лурье, утверждая, что еврейский прозелитизм – непрерывный и агрессивный, в то же время остается невидимым, ибо целью его является не привлечение к себе, а разложение местных традиций, отрыв от них и создание нейтральной аморфной среды: «Тому, кто живет, окруженный врагами, желательно повлиять на общественное мнение так, чтобы создать нейтральные и даже дружественные группы. Созданные, благодаря еврейскому агитаторскому и организаторскому таланту, не входившие в еврейство, но и эмансипировавшиеся в большей или меньшей степени от эллино-римских традиций группы sebomenoi являлись своего рода “буферными государствами”, отражавшими и отчасти принимавшими на себя сыпавшиеся на евреев удары» (Лурье, 2022: 18–19).
То есть специфика антисистемного прозелитизма – это стремление вырвать из традиции не для того, чтоб к себе привлечь, а для того, чтоб оставить в состоянии распада. Л.Н. Гумилев называет таковой способ борьбы против народов и цивилизаций методом «вавилонского столпотворения». Производится это «вавилонское столпотворение» путем пропаганды индиффи-ризма и скептицизма или по-современному - толерантности. Направлен данный прозелитизм на ликвидацию культурного ядра и коллективной воли. А получаемая в результате его действия буферная среда и является той самой обезличенной средой «естественного человека» и его естественных прав. Через эту среду и осуществляется «чужеродное правление». Таким образом, естественное право рационализирует и консервирует социальный распад, создавая основу для единого глобального управления.
Итак, сделаем выводы. Естественное право появляется на основе концепта «естественного человека». Естественный человек, как концепт, является некоей абстракцией, к которой в качестве универсального знаменателя сводят все разнообразие народов и культур. Таким образом, под именем признания различий культурно-исторических типов (в числителе), устанавливается единый принцип их неразличения (в знаменателе). То есть абстракция «естественного» человека обретает парадигмальный статус, а реальность конкретного человека, как представителя той или иной традиции, его лишается. Именно поэтому идеология прав человека противопоставляет некоего абстрактного человека реальному и защищает от него. Понятно, что именно на концепте естественного человека и выстраивается идеология глобализма.
На самом деле, человек представляет собой сплетение социальных связей, несущих культурно-историческое содержание. Реальный человек образуется качеством этих связей и несет в себе это качество. Поэтому защита прав человека реального означает защиту качества этой составляющей, ибо все коллективные формы находятся столько же вне индивидов, сколько и внутри их. Данный же концепт под именем тысячи содержаний исповедуется как единый принцип неразличения. Он приводит к полному равнодушию, индифферентности по отношению и к культурам, и к религии. Понятно, что ни интеллектуальный, ни политический суверенитет при этом невозможны в принципе.
Таким образом, естественное право - это антисистемный концепт и работает как инструмент антисистемной агрессии. Во-первых, данный идеологический концепт вторичен. Он появляется как результат освоения не природного, а уже освоенного, культурного ландшафта, то есть внутри уже состоявшихся культур, а не в период их становления, а значит, является результатом искусственного конструирования. Например, глобалист Ж. Аттали призвал к созданию «нового кочевника» - человека, свободного от национальных корней, культурных традиций, постоянных семейных связей. То есть такого человека «естественного» надо создать, сконструировать! В реальности его нет и никогда не было. Следовательно, данный концепт не самостоятелен, парази-тарен. Он не присущ системам, а появляется в них в качестве антисистемной агрессии. Таким образом, концепт естественного человека и его прав появляется на телах культур как ересь (антисистема). Появляется с целью ликвидировать культурное ядро (этнокультурную доминанту) и рассыпать «этнос розно». Ментальная доминанта (культурный код) ликвидируется путем обезличивания социальных связей, лишения их определенной культурной содержательной составляющей. Это обезличивание и закрепляется концептом естественного человека с его «естественным» разумом и «естественными» правами.
Данный концепт отслаивает психическую индивидуальность от культурно-исторических форм и социальных институтов. При ликвидации содержательной культурно-исторической доминанты общество атомизируется, а далее эта атомизация и изоляция индивидов вводится в норму. Реальность становится бессмысленной, а смысловая сфера - нереальной. Люди превращаются в однородных и изолированных индивидов (биомассу, по К. Швабу), а смысловая институциональная сфера - в жесткие однообразные шаблоны. Общество лишается субъектности, а политические институты - социальной составляющей. Управление начинает выстраиваться на шаблонных регламентах. То есть концепт естественного человека конструирует условия для единого глобального управления.
Данное «чужеродное» управление возможно только в атомизированном нормами естественного права обществе. А естественное право возводит атомизацию общества в правовую норму! Этим снимается претензия на гегемонию традиционной содержательной элиты и обосновывается гегемония чужаков. При цифровых технологиях данная ситуация дает возможность установления уже не просто глобальной диктатуры, а цифрового рабства в глобальном масштабе. Конечная цель - цифровая мега-система нормативных актов, которыми управляет в глобальном масштабе искусственный интеллект.
Таким образом, во-вторых, парадигма естественного человека и его прав представляет собой возведенное в систему рабство. Рабство - это социальная смерть. Быть социальным мертвецом означает, что раба ни с кем не связывают нравственные отношения. Ведь человек представ- ляет уникальное сплетение отношений с другими людьми. А рабство – это насильственное выдавливание человека из данного уникального сплетения и невозможность устанавливать нравственные отношения с другими людьми. Рабство выдавливает человека из связей, сотканных взаимными обязательствами и коллективной ответственностью, и превращает их в предметы обмена.
Но (!) обычное рабство – это насилие, которое мы различаем ! Возможность данного различения определяется наличием нравственной среды, среды с ментально-содержательными связями. Чтобы сделать рабство неразличимым, то есть возвести его в систему, эту культурно-историческую среду нужно уничтожить! Не людей вырывать из нее, а саму среду очистить от качества – обезличить . Так рабство становится всеобщим, и при этом исчезает само понятие рабства. Оно становится неразличимо.
Обезличиванием связей уничтожается сама возможность свободы. Все рабы, но рабство неразличимо, ибо сравнить не с чем. Концептуально это выхолащивание качества из социальных связей проводится теорией естественного права. И выдавливать становится неоткуда и некого – все рабы.
Свобода в таком обществе понимается исключительно в количественном плане, как свобода покупать и продавать. Таким образом, идеология естественного права становится не только инструментом захвата гегемонии антисистемой, но и идеологией обоснования этой гегемонии.
В-третьих, концепт естественного человека (и его права) перестраивает сферу эпистемы, всю структуру знания. Именно на этом концепте появляются методологические программы универсализма, единого линейного развития. А значит, ни о каком интеллектуальном суверенитете в данной эпистеме и речи быть не может. Именно на основе этого концепта вся сфера научного производства становится глобально управляемой. Механизмами этого управления, направленного на депопуляцию, деиндустриализацию, становятся теории модернизации, секуляризации, урбанизации, информационного общества. Именно в рамках концепта естественного человека эти теории и получают статус непререкаемого методологического ориентира для всех наук, особенного ярко это видно по социально-гуманитарным дисциплинам.
И, наконец, необходимо сказать о причине победы данного идеологического концепта. По нашему мнению, все дело в его кажущейся нейтральности, «естественности», то есть – ни-чейности. Это обезоруживает. Мы не воспринимаем данный концепт как вражеский. Подобным образом и с подобной же целью современные антисистемные организации используют приставку «эко». Например, так называемые цифровые платформы – это новая форма организации старых транснациональных корпораций. А значит, красивая фраза о переводе государств на онлайн-платформу означает просто передачу государства в руки транснациональных корпораций или приватизацию не экономических структур, а самого государства. Цифровые технологии – это средство данной приватизации. Банки теперь называются экосистемами, а государство в качестве онлайн-платформы становится частью этой банковской эко-корпорации. То есть мы лишаемся своего государства вот так просто, мирным путем. Но так как ко всему этому добавляется приставка «эко», нам не страшно. Ведь «эко» кажется чем-то природным, «естественным», а значит, зеленым и пушистым. И главное – нейтральным!
На самом деле, эта идеология вовсе не натуралистична. Она антисистемна и агрессивна, она воюет с нами. Но мы этого не видим! Почему? Д. Колеман очень тонко заметил, что люди отвергают все, в чем не чувствуют понятных мотивов, ибо, «… если мотивация не будет выражена достаточно ясно, то любая информация будет отвергнута» (Колеман, 2007: 89–90). Мотивация же нам не понятна потому, что это мотивация не системного, а антисистемного субъекта. Мы не понимаем мотивов структурной перестройки, концептуально уничтожающей эту реальную различающую среду, потому что это субъект антисистемный. И агрессия этого субъекта не содержательная, а структурная. Она преодолевает нас изнутри. Ведь она паразитарна, а прямое насилие со стороны паразита невозможно. Паразиту необходимо маскировать свой паразитизм так, чтобы хозяин не знал, что на нем паразитируют.
Данная маскировка требует контроля над смысловой сферой – образованием, наукой, СМИ. Это культурная гегемония, но гегемония низшего, антисистемного субъекта. А как низшее (паразит) может управлять высшим (хозяином)? Только через растление этого высшего. Поэтому осуществляется эта паразитическая гегемония путем запрета на ценностное, различающее восприятие – изменением не смыслов, а способов осмысливания. Эти способы осмысливания, восприятия должны стать неразличающими, или – толерантными. То есть данная антисистемная гегемония представляет собой эзотерический механизм, когда, публично не отрекаясь от содержания культурной традиции, основные мировоззренческие вопросы истолковывают прямо противоположно этой традиции. То есть меняют не «что», а «как», не смыслы и ценности, а способы осмысливания и оценивания. Концептом «естественного» человека неразличение, индифферентизм вносится в сами способы восприятия. Все растлевается, а механизмы растления возводятся в норму. И называется эта норма – Естественное право.
Список литературы Концепт естественного права в контексте теории антисистем
- Бенуа А. де. Против либерализма: к четвертой политической теории / пер. с фр. СПб., 2009. 475 с.
- Грэбер Д. Долг: первые 5000 лет истории. М., 2021. 496 с.
- Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. 784 c.
- Демин И.В. Ален Бенуа об истоках, мировоззренческих предпосылках и парадоксах теории прав человека // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Философия. 2021. Т. 3, № 2. С. 21–31. Зеньковский В.В. История русской философии: в 2 т. Л., 1991, Т. 1, ч. 1. 222 с.
- Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь // Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь / пер с нем. М., 2004. С. 413–603.
- Колеман Д. Комитет трехсот. М., 2007. 453 с.
- Кошен О. Малый народ и революция. М., 2004. 285 с.
- Лурье С. Антисемитизм в древнем мире. Петроград, 1922. 400 с.
- Финнис Дж. Естественное право и естественные права / пер. с англ. В.П. Гайдамака и А.В. Панихиной. М., 2012. 552 c.
- Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М., 1986. 703 c.
- Шпенглер О. Закат Европы. Минск, 1999. 688 с.