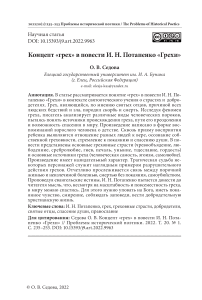Концепт «грех» в повести И. Н. Потапенко «Грехи»
Автор: Седова Олеся Валерьевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие «грех» в повести И. Н. Потапенко «Грехи» в контексте святоотеческого учения о страстях и добродетелях. Грех, являющийся, по мнению святых отцов, причиной всех людских бедствий и зла, породил скорбь и смерть. Исследуя феномен греха, писатель анализирует различные виды человеческих пороков, пытаясь понять источники происхождения греха, пути его преодоления и возможность спасения в миру. Произведение написано в форме воспоминаний взрослого человека о детстве. Сквозь призму восприятия ребенка выявляются отношение разных людей к вере, осознание собственной греховности, стремление к покаянию и спасению души. В повести представлены основные греховные страсти (чревообъядение, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость) и основные источники греха (человеческая самость, эгоизм, самолюбие). Произведение имеет назидательный характер. Трагическая судьба некоторых персонажей служит наглядным примером разрушительного действия грехов. Отчетливо прослеживается связь между порочной жизнью и неизлечимой болезнью, смертью без покаяния, самоубийством. Проповедуя евангельские истины, И. Н. Потапенко пытается донести до читателя мысль, что, несмотря на масштабность и повсеместность греха, в миру можно спастись. Для этого нужно уповать на Бога, иметь покаянное чувство, смирение, соблюдать заповеди, вести добродетельную христианскую жизнь.
И. н. потапенко, грех, греховные страсти, добродетели, святые отцы, спасение души, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/147236196
IDR: 147236196 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.9963
Текст научной статьи Концепт «грех» в повести И. Н. Потапенко «Грехи»
Х ристианское понятие «грех», являясь этической доминантой и «неотъемлемым элементом русской религиозноправославной картины мира» [Бушакова: 20], относится к ключевым концептам русской культуры, «которые издавна определяют вектор ее духовной эволюции» [Сайгин: 407]
и способствуют установлению связей между: «человеком и окружающим миром (ближним, родом, социумом); человеком и Богом; земной и посмертной жизнями» [Брилёва, 2001: 123]. Концепт «грех» находится в центре изображения фольклорных текстов, где он реализуется «через систему правил (запретов и предписаний)» [Брилёва, 2007: 138], а также становится одной из ведущих тем древнерусской литературы, начиная со «Слова о Законе и Благодати» митрополита Ила-риона с его поражающей энергией «отталкивания от своей греховности» [Есаулов: 32], а не риторическим обличением греховности чужой.
Размышления о грехе и о прилоге (первой ступени развития греховного помысла) характерны для всей русской литературы. По мнению А. Н. Ужанкова, можно наблюдать использование русскими писателями учения о прилоге «в построении художественных образов героев: Германа в «Пиковой даме» А. С. Пушкина, Екатерины в «Грозе» А. Н. Островского, Анны Карениной в одноименном романе Л. Н. Толстого или Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского» [Ужанков: 173]. Вячеслав Иванов полагал, что А. С. Пушкин «глубоко задумывался над природой человеческой греховности» [Иванов: 249], видел «рост основных грехов из одной стихии, их родство между собою» [Иванов: 249], исследовал чувственность в «Каменном Госте», скупость в «Скупом Рыцаре», зависть в «Моцарте и Сальери», уныние в «Евгении Онегине».
В этой связи особо следует упомянуть Гоголя и Достоевского. По мнению русского философа, богослова, литературного критика В. Н. Ильина, «мировая драма грехопадения, греха, порчи, связанности, одержимости грехом — вот главная тема Гоголя и Достоевского» [Ильин: 62–63]. При этом у обоих художников слова наблюдается разный подход к этой теме. В то время как у Гоголя — «ужас утраченной свободы, ужас магической завороженности грехом и разложением» [Ильин: 63], у Достоевского — «динамика в направлении к преодолению противоречий, ужасов распада и соблазнов пессимизма» [Ильин: 63], которая реализуется через философию свободы и сопутствующих ей эсхатологических тем смерти, Страшного Суда, загробного пути, вечности, что намечалось и у Гоголя, но «не в таких размерах и почти без философского подхода» [Ильин: 63]. По словам Г. С. Померанца, Достоевский, увидевший бездну греха, в которой рождается тоска по Богу, «идет от другого пласта русской культуры, от XVI–XVII веков, от чувства подавленности грехом, родившегося в московских кабаках и застенках» [Померанц: 148]. Тема греха в творчестве Достоевского, рассмотренная в разных аспектах, вызывает большой интерес у современных исследователей ([Касаткина], [Кашина], [Куйкина], [Петрова], [Слободян], [Ужанков]).
Тема греха находит отражение в творчестве многих представителей русской словесности. Не является исключением писатель-беллетрист и драматург И. Н. Потапенко (1856–1929), чье творчество долгое время находилось на периферии исследовательских интересов. Немногочисленные работы, посвященные литературному наследию писателя, которого считали типичным представителем русского натурализма, касались в основном проблематики и поэтики его произведений [Поддубная, 1977], эстетических взглядов [Поддубная, 1978b], отражения идей толстовства в его романах [Поддубная, 1978a], взаимоотношений с Чеховым [Букчин], [Шелоник]. Его тексты исследовались в контексте философии и практики «малых дел» [Потапенко]. В современных научных работах рассматриваются различные точки зрения, представленные в дореволюционной критике, относительно творчества Потапенко [Новикова, 2010]. Исследуется тема воспитания в семье и бурсе [Новикова, 2018], проводится сравнительный анализ пьес Чехова «Вишневый сад» и Потапенко «Искупление» [Лу-ченецкая-Бурдина]. Отмечается новаторство писателя, проявляющееся «в создании образа “среднего человека”, нравственно ответственного за свои дела и поступки, а также в усвоении традиций, характерных для беллетристов “чеховской артели”» [Новикова, 2016: 67–68].
Несмотря на широкий спектр исследуемых проблем, тема греха, одна из важнейших тем в творчестве И. Н. Потапенко, остается неизученной. Размышления о человеческой греховности находят отражение в повести «Грехи», имеющей подзаголовок «Наброски и силуэты». Впервые опубликованная в ежемесячном журнале «Мир Божий» в 1895 году в №№ 9–12
повесть «Грехи» затем вошла в сборник «Повести и рассказы», изданном в типографии А. А. Пороховщикова в 1896 году. Исследуя феномен греха, писатель пытается определить его природу и причину, способы борьбы с ним, а также средства воспитания добродетелей.
Повесть «Грехи» открывается зарисовкой утра первого понедельника Великого поста, когда «заунывный, дребезжащий, редкий звон “постного” колокола»1 возрождает в памяти автора-повествователя детское воспоминание об этом же дне с тем же печальным «постным» колокольным звоном. Произведение написано в форме воспоминаний взрослого человека о детстве, при этом все эпизоды из прошлого сконцентрированы на Великом посте.
Глазами ребенка пост и все связанные с ним предписания представляются чрезвычайно скучными: каждый день поход в церковь, в столовой «скучнейшая великопостная картина»: остывший самовар, невзрачные сухари, постная пища, но, главное, «все начнут каяться в своих грехах» (4).
Под понятие «грех» в повести подпадают самые различные явления, например смех. По словам няни десятилетнего Константина, от лица которого ведется повествование, громко смеяться во время Великого поста — грех. Сопоставление смеха и греха восходит к поучениям святителя Димитрия Ростовского, который предостерегал от смеха, потому что «смех бесчинный собранная расточает и устраняет Господни благодати, память смертную погубляет, суда страшного за-бытие творит»2.
Герои повести считают грехом гневаться, сердиться, кричать, повышать голос, читать фельетоны во время Великого поста. Действия подобного рода, воспринимаемые как грехи, базируются на понимании греха только как злого дела, проникшего, по словам архимандрита Киприана Керна, через латинскую схоластику в семинарские учебники и в сознание большого количества верующих. «Ударение целиком поставлено на дело, на факт, а вовсе не на порождающий их внутренний духовный фактор, т. е. то или иное состояние души, содержание души»3. В результате семинарские учебники нравственного богословия превратились в «скучнейшую грехологию»4. Примечательно, что И. Н. Потапенко, некогда получивший духовное образование в Херсонском духовном училище и Одесской семинарии и учившийся по этим учебникам, не мог не отразить подобное схоластическое понимание греха.
Но что же такое грех? Святитель Феофан Затворник в книге «Начертание христианского нравоучения» (1891) напомнил читающей публике, что грех не ограничивается одним только понятием злого, богопротивного дела, которое «есть преступление повелевающей или запрещающей заповеди Божией»5. Грех нужно рассматривать и как расположение, греховную склонность, страсть, которая представляет собой «постоянное желание грешить известным образом, или любовь к греховным каким-нибудь делам или предметам»6. Грех также воспринимается этим автором как состояние, или греховное настроение, характеризующееся жизнью «в своей воле с отвращением от Бога или невниманием к Нему и Его закону»7. Феофан Затворник подчеркивал, что любое совершившееся злое дело является проявлением внутреннего духовного содержания.
По мнению святых отцов, грех — причина всех людских бедствий и всякого зла — породил скорбь и смерть. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, «грех служит причиною всех недугов в человеке, и душевных и телесных, служит причиною временной и вечной смерти»8. Опыт наблюдений и борьбы с грехами позволил святым отцам свести все страсти в определенные схемы, самые известные из которых принадлежат Иоанну Кассиану Римлянину, Нилу Синайскому, Ефрему Сирину, Иоанну Лествичнику, Максиму Исповеднику, Григорию Паламе и другим. «Главных страстей восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость»9.
Мы попытаемся дать характеристику персонажей повести, определяя основные греховные страсти, ими владеющие. Начнем с Ипполита Марковича, отчима Кости и старшего брата героя, двенадцатилетнего Жоржа, с точки зрения которых «есть люди, у которых не может быть грехов, и есть другие, сверху донизу наполненные грехами» (51), именно таким в глазах мальчиков выглядел отчим. Они относились к нему предвзято и рассматривали этого человека как непримиримого врага, поскольку чувствовали над собой его постоянное давление, «вечное насилие» и опеку, в которых проявлялось его искреннее стремление принести пользу пасынкам.
Ипполит Маркович описывается как «человек, делающий все, как следует» (10), «давящий всех своим совершенством» (25) и «неисправимый педант» (31). По мнению пасынков, он все делает с таким видом, словно «каждое его движение, каждое слово, каждый поступок есть образец того, как надо жить» (13). Все действия Ипполита совершаются с чувством собственного достоинства, величественностью, важностью и подчеркнутой снисходительностью к слабостям и недостаткам других. Ипполит — порядочный человек с твердыми принципами, он никогда не повышает голос, не ругается, не наказывает служащих, не признает штрафов, поскольку считает, что нераденье может быть исправлено не наказанием, а искренним желанием исправиться. Однако в его присутствии людям неуютно, они чувствуют себя виноватыми не потому, что плохи, а «потому, что он слишком хорош» (12), более того «он — совершенство» (16), а временами даже «святой». Когда Ипполит входит в церковь, то все прихожане невольно начинают ориентироваться на него, крестятся и делают поклоны тогда, когда это совершает он. Молитва Ипполита, по словам Константина, — «это молитва человека, который знает наверно, что он не совершил каких-нибудь значительных грехов и потому без особенных усилий со своей стороны может рассчитывать на прощение» (19–20). В описании Ипполита своеобразно преломляется образ фарисея из притчи о фарисее и мытаре. Стоит отметить, что определенное фарисейство, подмеченное мальчиками в отчиме, им самим не осознается, более того, он был бы глубоко опечален, обнаружив в себе подобное качество. Ипполит — очень сложная личность, в понимании которой невозможно полагаться только на пристрастные мнения его пасынков.
Суждения других персонажей расширяют представление об Ипполите. Так, няня Марта Федоровна отзывается о нем как о человеке благородном и умном, но с холодной душой. Учитель Иван Арсентьевич также считает его умным человеком и мучеником, поскольку ему приходится каждую минуту следить за собой, чтобы поступать всегда правильно, а «если поступит не так, как следует, то очень мучается» (37). Лучше всего знает Ипполита Геннадий — его родной, «блудный» брат, «горчайший пьяница, человек совершенно погибший» (66), преждевременно умерший «где-то в канаве за городом» (132). Пьянство святые отцы относят к страсти чревообъядения. Ипполит испытывает жгучий стыд за своего спивающегося брата. В его отношении к Геннадию доминирует не братская любовь, а беспокойство о своей репутации из-за постыдного поведения родственника. Ипполит многократно пытался помочь брату, устраивал на работу, давал денег, но порок пьянства был силен, и Геннадий не стремился бросить пить, более того, он во всех своих бедах винил Ипполита, саркастически называя его «великий брат», «угодник», «непогрешимый» и при этом дико паясничая. По словам Геннадия, Ипполит «всех насильно в рай тянет» (84). Вероятно, это его желание насильно осчастливить других, подогнать всех под общепринятые нормы и вызывает наибольшее отторжение у окружающих. С другой стороны, Ипполит способен на искренние и глубокие чувства. Он очень любит мать Жоржа и Кости, ради которой пожертвовал своей карьерой, и делает все необходимое для воспитания ее детей.
При всем свойственном Ипполиту благородстве, многими его поступками движет самолюбие, которое рассматривается святыми отцами как источник всех страстей и пороков. По словам преподобного Амвросия Оптинского, «секира к истреблению корня самолюбия — вера, смирение, послушание и отсечение своих хотений и разумений»10. Ипполит, осознавая свою греховность, старается соблюдать заповеди Божьи, врачевать душу искренним покаянием, посещать богослужения, поститься, молиться, творить дела милосердия, хотя со стороны некоторые его благие деяния кажутся ханжескими. К сожалению, внутренний мир Ипполита закрыт от взора читателя, о реальных мотивах его поведения можно судить, только опираясь на пристрастные мнения пасынков, няни Марты Федоровны, брата и других персонажей.
Полной противоположностью Ипполита является мать Кости и Жоржа, которая всем хочет угодить и постоянно испытывает угрызения совести за какой-либо свой поступок, совершенный не должным образом. Например, она чувствует за собой грех из-за более позднего, чем следует, утреннего пробуждения, повлекшего опоздание в церковь. Другой ее грех состоит в желании поехать в церковь во время Великого поста в светлом платье, в котором не жарко в душной церкви, однако она знает, что Ипполит «безмолвно так покосился бы на это платье, что оно стало бы жечь бедную женщину» (21). В результате героиня решает «пожертвовать собой ради принципа» (21) и надевает вызывающее дискомфорт черное теплое платье, соответствующее великопостной атмосфере. Кроме того, она позволяет сыновьям съесть печенья, хотя знает, что они «как говельщики должны перед службой ограничиться одним только чаем» (21), более того, она позволяет напоить маленькую дочку молоком. А когда сама выпивает принесенный Мартой Федоровной «единственно для крепости» (22) кофе перед долгим богослужением, то чувствует, что грех в ней достиг невероятных размеров, и, ощущая себя великой грешницей, она отправляется в церковь, где всю службу, стоя на коленях, искренне и глубоко молится о своих прегрешениях. Между тем, читатель узнает, что за первого своего мужа эта женщина вышла замуж по любви, несмотря на то что все отговаривали ее, красивую наследницу богатого имения с большим выбором женихов, от этого замужества по причине болезни избранника. В основе всех поступков героини лежат материнская любовь и забота о семье. Воспитывая детей в благочестии и сохраняя в супружестве мир и согласие, она живет в полном соответствии с заповеданными апостолом Павлом назиданиями женщинам-христианкам «быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям» (Тит. 2:5). Молитвы, пост, богослужения помогают матери Кости и Жоржа противостоять мирской суете и помнить о суде Христовом, вечной жизни и спасении души.
Своеобразным отношением к Богу характеризуется поэтически одаренный учитель Иван Арсентьевич — «враг всякого формализма в учении» (31). Отличающийся вольномыслием и свободолюбием, он и к понятию «грех» относится достаточно легко, например, может пошутить о том, что в хорошую погоду заниматься уроками в комнате — грех. Свою веру Иван Арсентьевич не афиширует, церковь посещает, однако мальчики никогда не замечают там своего учителя. На замечание Жоржа о том, что они ни разу не видели, как их наставник молится, дети получают следующий ответ: «Я молюсь иногда дома…, иногда в саду, когда смотрю на небо» (34). Однако мальчикам это непонятно, поскольку их приучают к определенным правилам поведения в вопросах веры. Например, у них с детства воспитывались потребность в молитве и необходимость покаяния, и дети «без всякого постороннего понукания молились каждое утро и каждый вечер» (54). Наряду с каждодневными утренними и вечерними молитвами, они участвовали в общей домашней молитве, регулярно посещали богослужения, постились, исповедовались и причащались. Им непонятно слово «иногда» в отношении молитвы, а также неясна мысль учителя о том, что молиться — «это значит отрешиться от мира, от забот, от неприятных мыслей, от всего» (34), и чем больше ты отрешишься, тем ближе становишься к Богу. По словам мальчиков, Иван Арсентьевич был странным человеком, в котором «удивительным образом смешивались испытатель природы, реалист, с чувствительным поэтом с небольшой долей мистицизма» (113). Воспитанный в православной вере, он не избежал влияния распространяющихся в обществе материалистических идей.
Особую роль в повести играет Елизавета Августовна, чья трагическая жизнь является иллюстрацией разрушительного действия грехов. Елизавета Августовна, которую дети знают как старую, немощную, прикованную к инвалидному креслу женщину, в молодости отличалась красотою, веселым нравом и ветреностью. Иностранка, гордая своим дворянским происхождением, она из тщеславия и жажды богатства вышла замуж за старого состоятельного финансиста, который ее любил и ревновал. Но она изменяла мужу и даже не скрывала своих измен, за что он ей отомстил: раздал все свои сбережения и имущество и застрелился, оставив ее нищей. В результате с ней «случился нервный удар» (61), обездвиживший ее. В одночасье обеспеченная красавица, окруженная толпами поклонников, превратилась в никому не нужного инвалида без средств к существованию. Долгие годы она провела прикованной к одному месту с приставленной к ней сиделкой, которая ее тиранила и грозилась ее покинуть. Елизавета Августовна редко постилась и исповедовалась. Часто ею овладевали отчаяние и уныние. По мнению мальчиков, «грешить делом у нее не было возможности, но по всей вероятности, в прошлом у нее было так много грехов, что тяжесть от них сохранилась в душе до сих пор» (63). Однако и в теперешнем положении у героини сохранилась страсть нюхать табак. Кроме того, она иногда позволяла себе выпить рюмку водки. От самой Елизаветы Августовны становится известно, что она грешит в своих мыслях и искренно полагает, что «в жизни только и есть приятного, когда согрешить можно» (94). Примечательно, что дети, еще не сильно разбирающиеся в тонкостях человеческой натуры и истоках греха, делают поразительно прозорливый, мудрый вывод о том, что она наибольшие муки испытывала не от своей немощи, а «от постоянной мысли о грехе, который был ей недоступен» (94). Пример
Елизаветы Августовны чрезвычайно поучителен. Создается впечатление, что нет такого греха, который бы не познала эта женщина. Среди ее грехов имеются тщеславие, гордость, сребролюбие, любодеяние, печаль, уныние, чревообъядение. Один из самых главных ее пороков, блуд, сопровождал ее всю молодость. Стоит отметить, что даже в старости Елизавета Августовна не раскаивается в своих грехах.
В повести представлен еще один тягчайший смертный грех — самоубийство. Именно этот способ ухода из жизни выбрал супруг Елизаветы Августовны в качестве мести. Этот грех не может быть прощен церковью, поскольку не может быть отпущен при покаянии.
Некоторые люди, по мнению Кости и Жоржа, безгрешны. Например, мальчики уверены, что у старенькой няни Марты Федоровны не может быть грехов. А если они и были в молодости, то давно исповеданы, прощены и больше не повторялись.
Мальчики уверены, что нет грехов и у деда Родиона. Родом из крепостных, в юности отданный в солдаты, он прошел тяжелую школу выживания, вернувшись после долгой службы на родину, не нашел в живых никого из родных, а его имущество перешло в чужие руки. Несмотря на полную лишений, испытаний, огорчений и обид жизнь, дед Родион сохранил удивительно светлую душу, никогда не жаловался, радовался тому, что имеет и благодарил Бога за все. Летом он жил в курене с собакой Жучкой, и дети, которых невероятно тянуло к нему, чувствовали исходящие от него душевное тепло и мир. Зимой дед Родион за грошовую плату покупал себе право лежать на печи у бедного мужика, поскольку в своем курене он не смог бы пережить зимнюю стужу. Он всегда работал, даже в свои восемьдесят лет расставлял в реке плетенные из камыша коты для ловли рыбы, предназначавшейся хозяевам усадьбы. Дед Родион жил в полной гармонии с природой: «Он слился и с солнышком, и с травкой, и с песней птицы, и с шелестом камыша» (47). Он посещал церковь, говел, каялся, молился, причащался, всегда со всеми был ласков и доброжелателен. К удивлению мальчиков, дед Родион уверяет, что у него, как и у всех, есть грехи. По его мнению, «человек всегда грешит, человек грешит уже тем, что живет» (52). На вопрос мальчиков, с удивлением спросивших, как такое может быть, дед отвечает: «…рыбка плавать хочет, а я ее стерегу, коты ей расставляю, ловушку, значит, а попадется, тащу ее сеткой… Травка расти хочет, я ее ногами топчу…. что ни шаг, то грех, что ни вздох, то все у кого ни на есть… что-нибудь отнимаем» (52). Поэтому «каяться надо повсегда и повсюду», — заключает дед Родион. Примечательно, что он никогда не говорит о грехах других людей, он их словно не замечает, а говорит только о своих. Дед Родион — пример истинной святости, им самим неосознаваемой.
Еще один пример праведности — дед Яков, жизненное кредо которого — служить Богу, царю и господам. Деду Якову, несколько сроков проведшему на военной службе, а затем ставшему искусным поваром, больше ста лет. Во время Великого поста он на первой и последней неделе совершает говение и поход в церковь, находящуюся в версте от усадьбы. Для деда Якова это целое путешествие, как паломничество в Иерусалим: он выходит из усадьбы в три часа утра, а приходит к восьми утра, к началу обедни. Три дня он живет в церковной сторожке, полностью посвящая себя Богу, а в свободное время подметает церковную ограду, поскольку не представляет своей жизни без труда. Дед Яков предчувствует, что умрет на Пасху. И «он действительно умер в святую неделю на третий день Пасхи» (132).
Образы деда Родиона и деда Якова являют собой пример праведной, богоугодной жизни, в которой борьба с греховными страстями увенчалась победой. Их жизнь — это путь, наполненный решительным борением со страстями. Эта решимость бороться с грехом поддерживается страхом Божием, памятью о Боге. «Страх Божий удерживает христианина от всякого порока, охраняет душу от всякого зла и предшествует всякой добродетели» [Шиманский: 62]. Обоих героев объединяет постоянная молитва и труд, ощущение своей греховности, покаянное чувство и смирение, то есть те необходимые качества, которые помогают бороться с грехом.
Таким образом, размышляя о греховных страстях и христианских добродетелях, И. Н. Потапенко показывает, что грех сопутствует человеку с самого раннего детства, с того момента, как человек начинает осознавать себя, свое место в мире, анализировать свои поступки. Десятилетний Костя, от лица которого ведется повествование, уже способен в самом себе отметить зарождающееся тщеславие, осуждение и другие грехи. При этом источники греха — не что иное, как человеческая самость, эгоизм, самолюбие. В повести имплицитно заложена мысль, что, несмотря на масштабность и повсеместность греха, спастись в миру можно. Для этого нужно любить Бога и ближнего, соблюдать евангельские заповеди, молиться с сокрушением сердца о прощении грехов, делать добрые дела, быть милосердным, кротким и смиренным, как дед Родион и дед Яков. При этом в повести не акцентируется жизненный путь этих праведников как единственно правильный, ведущий к спасению души. Семейные люди, живущие мирской жизнью, такие как Ипполит, мать Кости и Жоржа, имеют все возможности спастись. Осознавая свою греховную человеческую природу, они стремятся к богоугодной жизни, борются с грехами, молятся, постятся, посещают богослужения, исповедаются, причащаются, воспитывают детей в христианской вере. И таким образом постепенно преодолевая грех, понуждая себя к добродетельной жизни, они подтверждают евангельские слова: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12).
Список литературы Концепт «грех» в повести И. Н. Потапенко «Грехи»
- Брилёва И. С. Представления о грехе в народной традиции // Язык, сознание, коммуникация: сб. ст. / отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М.: МАКС Пресс, 2001. Вып. 19. С. 123–129.
- Брилёва И. С. Грех: формы архивации в народной памяти // Знание. Понимание. Умение. 2007. № 2. С. 138–144.
- Букчин С. В. Чехов и Потапенко // Чеховские чтения в Ялте: Чехов и русская литература: сб. науч. тр. М.: Гос. б-ка им. В. И. Ленина, 1978. С. 95–103.
- Бушакова М. Н. Концепт «грех» как отражение основ православной культуры в русском языке // Актуальные вопросы изучения духовной культуры: материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XI Кирилло-Мефодиевские чтения». М.; Ярославль: Ремдер, 2010. С. 16–20.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1995. 288 с.
- Иванов В. Роман в стихах // Пушкин в русской философской критике: конец XIX — первая половина XX в. М.: Книга, 1990. С. 244–249.
- Ильин В. Н. Эссе о русской культуре. СПб.: Акрополь, 1997. 464 с.
- Касаткина Т. А. «Я великая, великая грешница»: Богословие греха в «Преступлении и наказании» и «Идиоте» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2020. № 1 (9). С. 16–30. DOI: 10.22455/2619-0311-2020-1-16-30
- Кашина Т. А. Felix culpa: спасительный грех в пьесе «Атласный башмачок» и в романе «Братья Карамазовы» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2020. № 3 (11). С. 169–179. DOI: 10.22455/2619-0311-2020-3-169-179
- Куйкина Е. С. Пьянство как грех в творчестве Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 1. С. 239–257 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1612727820.pdf (17.09.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9082
- Лученецкая-Бурдина И. Ю., Полтевская К. Е. «Вишневый сад» А. П. Чехова и «Искупление» И. Н. Потапенко: художественные взаимосвязи и сюжетные соответствия // Вестник Костромского государственного университета. 2020. Т. 26. № 3. С. 153–158. DOI: 10.34216/1998-0817-2020-26-3-153-158
- Новикова А. А. Творчество И. Н. Потапенко в литературно-критических мнениях и суждениях современников рубежа ХIХ–ХХ вв. // Вестник Читинского Государственного университета. 2010. № 1 (58). С. 94–99.
- Новикова А. А. Художественное своеобразие пьесы И. Н. Потапенко «Жизнь» (1894) // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2016. № 3 (7). Vol. 4. С. 67–71.
- Новикова А. А. К вопросу о реализации темы «бурса — школа» в сюжетно-композиционной структуре повести И. Н. Потапенко «До и после» // Инновационная наука, образование, производство и транспорт: юриспруденция, образование и воспитание, физическое воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика. Одесса: Куприенко С. В., 2018. С. 149–157.
- Петрова А. Д. Тема греха в творчестве Г. Аполлинера и Ф. Достоевского // Древняя и Новая Романия. 2019. № 23. С. 337–341.
- Поддубная Е. Я. К вопросу о проблематике и поэтике творчества И. Н. Потапенко // Русская литература 1870–1890-х гг. Свердловск, 1977. Вып. 10. С. 116–132.
- Поддубная Е. Я. Отражение идей толстовства в романах А. И. Эртеля, А. А. Лугового и И. Н. Потапенко // Русская литература 1870–1890-х годов. Свердловск, 1978. Вып. 11. С. 69–80. (a)
- Поддубная Е. Я. Эстетические взгляды И. Н. Потапенко // Проблемы художественного метода и жанра. Л., 1978. С. 52–56. (b)
- Померанц Г. С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М.: Сов. писатель, 1990. 384 с.
- Потапенко О. А. «Малые дела» героев И. Н. Потапенко в романах «Живая жизнь», «Слово и дело» // Материалы межвузовской научно-практической конференции филологов. Балашов, 1991. С. 106–109.
- Сайгин В. В. Окказиональные дериваты лексемы грех в языковом воплощении концепта «грех» в современной русской речи // Русский язык в поликультурном мире. Сборник научных статей III Международного симпозиума. Симферополь: ИТ «Ариал», 2019. Т. 1. С. 407–412.
- Слободян Д. В. Ставрогин и «ставрогинский грех»: ницшевская рецепция в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» // Филолого-коммуникативные исследования. 2016. № 3. С. 120–129.
- Ужанков А. Н. Святоотеческое «учение о прилоге» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 2. С. 172–189 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1591709003.pdf (17.09.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8002
- Шелоник М. И. Чехов и Потапенко в личных взаимоотношениях и характеристиках // Творчество А. П. Чехова. Ростов-на-Дону, 1988. С. 79–86.
- Шиманский Г. И. Учение святых отцов и подвижников Православной Церкви о борьбе с главными греховными страстями и о добродетелях. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. 672 с.