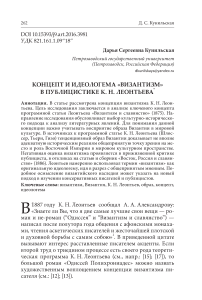Концепт и идеологема "византизм" в публицистике К. Н. Леонтьева
Автор: Кунильская Дарья Сергеевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена концепция византизма К. Н. Леонтьева. Цель исследования заключается в анализе ключевого концепта программной статьи Леонтьева «Византизм и славянство» (1875). Направление исследования обусловливает выбор культурно-исторического подхода к анализу литературных явлений. Для понимания данной концепции важно учитывать восприятие образа Византии в мировой культуре. В источниках к программной статье К. Н. Леонтьева (Шлоссер, Тьери, Гизо) тенденциозный образ Византии доказывает не вполне адекватную историческим реалиям общепринятую точку зрения на место и роль Восточной Империи в мировом культурном пространстве. Негативная оценка византизма проявляется в прижизненной критике публициста, в откликах на статью и сборник «Восток, Россия и славянство» (1886). Леонтьев намеренно использовал термин «византизм» как оригинальную идеологему, идя в разрез с общепринятым мнением. Подобное осмысление византийского наследия может указать на новый подход в изучении консервативных писателей и публицистов.
Византизм, византия, к. н. леонтьев, образ, концепт, идеологема
Короткий адрес: https://sciup.org/14748969
IDR: 14748969 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3981
Текст научной статьи Концепт и идеологема "византизм" в публицистике К. Н. Леонтьева
В 1 887 году К. Н. Леонтьев сообщал А. А. Александрову: «Знаете ли Вы, что я две самые лучшие свои вещи — роман и не-роман (“Одиссея” и “Византизм и славянство”) — написал после полутора года общения с афонскими монахами, чтения аскетических писателей и жесточайшей плотской и духовной борьбы с самим собою» 1 . В приведенной цитате вызывают интерес расставленные писателем акценты. Если второй труд о триедином процессе есть своего рода теоретическая программа К. Н. Леонтьева (см., напр.: [15]; [17]), то большой роман «Одиссей Полихрониадес» можно назвать художественным воплощением концепции византизма писателя (см.: [12]; [13]).
Статья «Византизм и славянство» была напечатана в третьей книге «Чтений в Императорском обществе истории древностей Российских при Московском университете» (ред. О. М. Бодянский) за 1875 год. В своих воспоминаниях «Моя литературная судьба 1874–1875» (1875, 1890) Леонтьев рассказывал, что «Византизм» получил негативные отзывы М. Н. Каткова и И. С. Аксакова, едва ли не главных представителей консервативной партии того времени (см.: [8, 93‒106]).
Византизм определил историко-философские взгляды Леонтьева, для которого это понятие — «особого рода образованность или культура» 2 . Византизм, как полагал консервативный мыслитель, «в государстве значит — самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей, от расколов. В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях крайне преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено германским феодализмом…» (7 1 , 300–301).
Из этого постулата писатель исходит в учении о роли России в мировой истории: «Византизм организовал нас, система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными, простыми началами, с нашим, еще старым и грубым в начале, славянским материалом» (71, 331).
К. Леонтьев не просто излагал свои теоретические взгляды: архивный материал, введенный в научный оборот О. Л. Фетисенко, позволяет сделать вывод о том, что в последние годы своей жизни он готовил особый проект устроения новой Восточной Империи с главным городом — Константинополем. Как пишет О. Л. Фетисенко, «“мечты” и “пророчества” Леонтьева о “культурно-бытовом своеобразии” (81, 52) оформляются в стройное учение, которому <…> он дал название гептастилизма, вероятнее всего, в 1882– 1883 гг.» [20, 82].
В истории России Леонтьев с его идеей о восстановлении Византийской империи не был одинок. Мечтаниям писателя предшествует, к примеру, «греческий проект» Екатерины II, впервые изложенный в письме к австрийскому императору Иосифу II (10/21 сентября 1872 г.)3. Несмотря на то, что «греческий проект» не был реализован, в русской культуре подобный замысел играл важную роль на протяжении долгого времени, поскольку формирование государственной идентичности совпало со временем, когда «метафоры и риторические ходы как бы застывали в основных положениях новой государственной идеологии <…>» [10].
Византийская империя для Леонтьева оставалась положительной моделью сильного государства, удерживающего на протяжении тысячи лет лидирующее положение в мире.
В начале XX века в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» А. Н. Чудинова византизм трактуется как «отличительная особенность византийского быта: деспотизм, бюрократизм, подчинение церкви государству, преклонение пред внешними формами религии без нравственных правил; лесть, пышность, разврат» 4 . В переведенном с немецкого языка «Словаре античности» конца XX века византизм охарактеризован через словосочетание «“типично византийский”»: также отмечается, что в конце XIX века «в период прусской монархии произошло сужение этого понятия. Данным словом стала обозначаться совокупность темных сторон византийского государства и частного быта» 5 .
До Леонтьева, во многом и после, византизм как историческое явление воспринимался в большей степени отрицательно. Писатель и публицист попытался переосмыслить содержание термина и дать переоценку византийскому наследию в мировой истории.
Работая над статьей «Византизм и славянство», он пользовался источниками, которые имел в своем распоряжении (72, 682–713), читал ранее, отсутствием и недостаточностью которых был не удовлетворен (72, 667). Указывая источники автора в связи с историей Византии, чаще всего вспоминают А. Тьерри и его книгу «Последние времена Западной Империи», а также Ф. Гизо, упомянутого в «Византизме» несколько раз (71, 307, 405, 423).
Тьерри в предисловии к своему труду обвиняет западную историческую науку XVIII века в пристрастном увлечении ученых, с каким они «преследовали Императоров Христианских, искажая их действия и представляя их в превратном виде» [19, 3]: подобное восприятие формировалось столетиями.
Выдающийся петербургский ученый А. А. Васильев в обзоре византийской историографии подчеркивает роль Ш.-Л. Монтескье и Э. Гиббона в формировании негативного восприятия Восточной Империи в Европе. Франция, явившаяся основательницей византиноведения, в том же XVII веке, «вступив в просветительскую эпоху <…> с ее отрицанием прошлого, со скептицизмом в области религии и с критикой монархической власти, не могла уже более интересоваться Византией» [2, 44]. Начиная с этого времени история Византии стала получать уничижительную характеристику.
Профессор Робин Кормак, британский специалист по византийскому искусству, отмечает, что крайне негативная оценка византийского искусства, темного, забывшего античную традицию, появляется уже в XVI веке: «It appears to dissolve the highly negative interpretation of Byzantine art first set out in 1550 by the painter Giorgio Vasari (1511–1574) in his Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects which has been the dominant view in much scholarship: that the arts of antiquity ‘died’ in the Dark Ages, only to be revived by Giotto in the thirteenth century» 6 [22, 2].
Причины подобной оценки кроются, как представляется, не только в идеалах эпохи Просвещения, но и в более ранней истории, когда во время Четвертого крестового похода в 1204 году был полностью разорен Константинополь, и Византия, которой суждено было существовать еще два века, так и не смогла оправиться от этого удара.
Немецкий историк Ф. К. Шлоссер, чей многотомный труд «Всемирная история» использовал Леонтьев, писал о завершении Четвертого крестового похода:
Возмутительная жестокость франков, их зверская и необузданная чувственность, дикая ярость, с которою они оскверняли все святое и не святое, присоединяя к насилию поругание, — все эти варварства ни в чем не уступали неистовствам, произведенным османскими турками двести пятьдесят лет спустя: но те имели, по крайней мере, извинением, что в покоренном городе видели столицу неверных [21, т. 2, 75].
Отметим, что книга Шлоссера долгое время оставалась «единственным обширным изложением всеобщей истории» (см.: [4]). Шлоссера, по мнению Леонтьева, отличало общее гуманное направление. Гервинус, ученик Шлоссера, особое значение своего наставника для исторической науки видел в том, что он призывал ученых перестать «смотреть на средневековье глазами Вольтера» [3, 156]. Но, заметим, объективное изложение фактов истории не лишает исследование Шлоссера традиционной негативной оценки византийского быта и нравов 7 .
Другой важный источник, к которому обращался Леонтьев, — это «История цивилизации в Европе» Ф. Гизо, которого он характеризовал как «аристократа в политике и христианина в чувствах» (81, 196). В своем труде Гизо не касался проблемных вопросов истории Восточной империи, но отдельные авторские замечания позволяют сделать вывод относительно взглядов этого исследователя на Византийскую империю. Размышляя о роли Церкви в конце V — начале VI веков, Гизо пишет о монастырях как местах убежища для нее и далее проводит аналогию: «Туда удалялись благочестивые люди, подобно тому, как на Востоке они удалялись в Фи-ваиду, чтобы избегнуть светской жизни и испорченности нравов Константинополя» [7, 152]. Анализируя крестовые походы как явление общеевропейское, Гизо замечает: «Нет сомнения, что греческое общество, несмотря на свою обессиленную, испорченную, умирающую цивилизацию, произвело на крестоносцев впечатление общества более развитого, утонченного, просвещенного, нежели их собственное» [7, 154].
Несмотря на объективность, присущую Шлоссеру и Гизо, оба историка в целом находились под влиянием традиции, выраженной в известном тезисе Вольтера об «ужасной и отвратительной» («horrible et dégoûtante») Византии.
Назовем еще один источник византизма писателя — «Введение в историю XIX века» Г.-Г. Гервинуса, у которого
Леонтьев ценил мысль о том, что закономерное развитие государства совершается от первоначальной точки к своему апогею, а затем происходит возвращение к первоначальному состоянию. Гервинус обращает внимание на конечное завоевание Византии турками в 1453 году и делает вывод о том, что гибель империи показала Европе ее слабую сторону «в политической организации» [6, 18].
В использованных Леонтьевым источниках контекст высказываний о Византии нейтрален или тяготеет к таковому (у Шлоссера и Гизо), позитивен (у Тьерри), амбивалетен (у Гервинуса).
Согласно данным «Национального корпуса русского языка» самое раннее использование лексемы византизм связано с именем А. И. Герцена и его статьями «Дилетантизм в науке» (1843) и «Русские немцы и немецкие русские» (1859) 8 . Этот факт заслуживает особого внимания, поскольку параллели в творчестве Герцена и Леонтьева несомненно существуют (см., напр.: [8]). Леонтьев неоднократно указывал на то, что Герцен, «человек изящно воспитанный и глубокий <…> разочаровался в европейском простолюдине; он понял, что ему, этому рабочему, хочется стать средним буржуа и больше ничего » (71, 100). Много позднее Леонтьев рекомендует «познакомиться со взглядами Герцена на Европу и Россию» [16, 76] о. И. Фуделю, одному из своих ближайших учеников.
По воспоминаниям М. В. Леонтьевой, племянницы К. Н. Леонтьева, в 1869 году, когда ее дядю перевели в город Янина консулом, они читали «Герцена — наслаждались остроумием, блеском и теплотой в его “Былом и думах”» (62, 89). В «Англии», шестой части этого произведения, мы находим употребление термина византизм : «Грубый католицизм и позолоченный византизм не так суживают ум, как тощий протестантизм; а религия без откровения, без церкви и с притязанием на логику почти неискоренима из головы поверхностных умов, равно не имеющих ни довольно сердца, чтоб верить, ни довольно мозга, чтоб рассуждать» 9 .
Эстетический компонент, важный и для Леонтьева, и для Герцена, выступает на первый план. Самобытность религии, оригинальность идей, положенных в основу развития нации, — критерии, играющие первостепенную роль в философии культуры двух писателей. Можно допустить, что Леонтьев обратил внимание на термин византизм в одной из статей Герцена (см. об этом: [20, 164]). В 1890 году в полемике с В. С. Соловьевым Леонтьев признался: « Слово это сослужило мне плохую службу в русской литературе; на него нападали почти все, даже и весьма благоприятно обо мне писавшие» (82, 144).
Так, И. Аксаков критиковал взгляды Леонтьева на грекоболгарскую распрю и характеризовал «византизм» как явление, обособляющее Россию, но вместе с тем и тормозящее ее развитие: «…у насъ сама народность носитъ на себѣ напѣчатленiе Церкви. Мы приняли ея строй изъ Византiи и даже блюдемъ ее со всѣмъ внѣшнимъ характеромъ византизма, — даже въ ущербъ нашему нацiональному развитiю!» [1, 10]. В его толковании византизм предстает как некий отвлеченный принцип, наследованный Россией.
Орест Миллер порицал Леонтьева за взгляды, прямо противоположные славянофильским 10 . Византийство , как полагает Миллер, присуще определенной традиции, наследованной от Восточной империи. Выразителем подобных взглядов Миллер называет прп. И. Волоцкого, ссылающегося «на ту кровавую практику византийскую, которая вовсе однако же не убеждала его противников, проникнутых истинным духом Христовым заволжских старцев» [14, 436]. Термин византийство употреблен здесь в отрицательном смысле, характеризующем деспотическую власть византийских правителей, подчиняющих церковь государственному началу.
В заметке-рецензии, появившейся в № 12 журнала «Вестник Европы» за 1885 год, слова византизм, византинизм, византийство используются как синонимы. Византийская идея, пропагандируемая Леонтьевым, расценивается автором заметки крайне негативно: «Славянская идея должна уступить место византийской, а последняя призвана положить свою безнадежно-мертвящую печать на русское народное развитие <…>» [3, 912].
В энциклопедии «Русская философия» (2010) термин византизм фиксируется как авторский. Византизм заключает в себе «особого типа отношения между Церковью и государством, где Церковь и государство не противостоят друг другу, а напротив, взаимодополняют, помогают друг другу в ходе достижения согласия (гармонии) и сотрудничества (синергии)» 11 .
Для Леонтьева византизм подразумевал новое направление консервативной мысли. Склонный к эстетическому эпатажу Леонтьев прибегает к емкой провокативной формуле — «Византизм и славянство». Славянофилы и западники, апеллируя в своих спорах к наследию Византийской империи, оставались в русской культуре. С одной стороны, византизм выступал как культурный концепт, входящий «в ментальный мир человека» 12 . С другой стороны, термин обладал отличительной особенностью идеологемы [11, 57], являясь выражением определенной идеологии и характеризуя тип государственности, представления о пути развития России, ее идентичности и самоопределении в мировой истории.
Идея русского византизма парадоксальна. Она выражает специфическое для русского сознания «тонкое различие “я знаю это” и “я знаю об этом”» [18, 112]. И если «“почвенничество” Достоевского и есть его новое слово в истории идей» [9, 23], то византизм Леонтьева стал еще одной темой в споре о путях развития русского государства.
Примечания
Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX–XX веков» (№ 34.1126).
-
1 Леонтьев К. Н. Избранные письма. 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 318.
-
2 Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2005. Т. 7. Книга 1. С. 300. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома, книги (нижний индекс), страницы в круглых скобках.
-
3 Письмо Екатерины II к Иосифу II от 10 сентября 1782 г. // Русский Архив. 1880. № 4. С. 281‒291.
-
4 Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка [Электронный ресурс]. — URL: http://dic.academic.ru/ contents.nsf/dic_fwords.html.
-
5 Ирмшер Й., Йоне Р. Словарь античности. М.: «Прогресс», 1989. С. 99.
-
6 «Как представляется, широкое распространение получила крайне негативная интерпретация византийского искусства, впервые изложенная Джорджо Вазари в его книге “Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих”. Согласно этой концепции, античное искусство погибло в “темные века” только, чтобы возродиться благодаря Джотто в XIII веке: данная точка зрения оставалась доминирующей в гуманитарной сфере» (перевод мой. — Д. К .). Джорджо Вазари (1512–1574) — художник, архитектор, популяризатор идеи о «темном» византийском периоде в искусстве. См.: Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М.: Терра, 1994. 848 с.
-
7 Примером может служить характеристика, данная историком, восстанию «Ника» (532 г.) в Константинополе: «Возмущение это (восстание «Ника». — Д. К .) доказывает, до какой степени нравственного упадка дошли потомки древних римлян, составлявшие население Константинополя» [21, т. 3, 273].
-
8 Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: http://www.ruscorpora.ru/ .
-
9 Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. Т. 11. С. 224.
-
10 По мнѣнiю нѣкоторыхъ, слово человѣкъ должно быть устранено, какъ опасный соблазнъ, изъ государственной сферы, по мнѣнiю другихъ, едва-ли не такимъ же соблазномъ служитъ оно и въ сферѣ церковной. Прочтите напримѣръ сочиненiя — неоспоримо талант-ливаго г. Леонтьева: “Византизмъ и славянство” и “Наши новые христiане”, и вы убѣдитесь въ послѣднемъ…» [14, 421].
-
11 Шамшурин В. И. Византизм. Новая философская энциклопедия: в 4 т. [Электронный ресурс]. URL: http://iphlib.ru/greenstone3/library/ collection/newphilenc/document/HASH0186d76cc06fa939e54e2d86.
-
12 Степанов Ю. С. Концепты: Словарь русской культуры. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 40.
Список литературы Концепт и идеологема "византизм" в публицистике К. Н. Леонтьева
- Аксаковь И. С. //Русь. -1884. -№ 7. -С. 2-16.
- Васильев А. А. История Византийской империи (время до Крестовых походов). -СПб.: «Алетейя», 1998. -512 с.
- Востокь, Россiя и славянство. Сборникь статей К. Леонтьева. Том I. Москва, 1885 //Вѣстникь Европы. -1885. -№ 12. -С. 909-912. («Литературное обозрѣнiе»).
- Всеобщая Исторiя Георга Вебера. Переводь со второго изданiя, пересмотрѣннаго и переработаннаго при содѣйствiи спецiалистовь. Томь первый. Перевель Андреевь. Изданiе К. Т. Солдатенкова. М., 1885 //Вѣстникь Европы. -1885. -№ 12. -С. 903-905. («Литературное обозрѣнiе»).
- Гервинус Г. Г. Автобиография. -М.: Издание К. Т. Солдатенкова, 1895. -359 с.
- Гервинус Г. Г. Введение в историю XIX века. -СПб.: Типография О. И. Бакста, 1864. -151 с.
- Гизо Ф. История цивилизации в Европе. -М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. -329 с. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»).
- Гревцова Е. С. Философия культуры А. И. Герцена и К. Н. Леонтьева: Сравнительный анализ: дис.. канд. философских наук. -М., 2000. -142 с.
- Захаров В. Н. Почвенничество в русской литературе: метафора как идеологема//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. -Вып. 10: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 7. -С. 14-24.
- Зорин А. Л. Русская ода конца 1760-х -начала 1770-х годов, Вольтер и «греческий проект» Екатерины II//НЛО. -1997. -№ 4 . -URL: http://magazines.russ.ru/nlo/1997/24/zorin.html (05.08.2016).
- Клушина Н. И. Теория идеологем//Политическая лингвистика. -2014. -№ 4. -С. 54-58.
- Кунильская Д. С. «"Литературный" византизм в романе "Одиссей Полихрониадес"»//Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. -Вып. 11: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 8. -С. 55-57.
- Кунильская Д. С. «Ранневизантийская традиция в романе "Одиссей Полихрониадес" К. Н. Леонтьева»//Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. -Вып. 10: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 7. -С. 71-73.
- Миллер О. Ф. Церковь и византийство//Киевская старина. -1884. -№ 11 (ноябрь). -С. 419-446.
- Пашко Р. Г. Концепция «византизма» Константина Леонтьева//Русская культура на межконфессиональных перекрестках. -М.: МАИ, 1995. -С. 70-71.
- «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания. (Приложение к Полн. собр. соч. и писем К. Н. Леонтьева: в 12 т. Кн. 1). -СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2012. -756 с.
- Рабкина Н. А. «Византизм» Константина Леонтьева//История СССР. -1991. -№ 6. -С. 28-44.
- Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. -М.: Языки славянских культур, 2007. -248 с.
- Тьерри А. Рассказы Римской истории пятого века. Последнее время Западной Империи. -М.: Университетская тип., 1861. -478 с.
- Фетисенко О. Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собеседники и ученики: (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX века -первой четверти XX века). -СПб.: Изд-во «Пушкинский дом», 2012. -784 с.
- Шлоссер Ф. Всемирная история: в 8 т. -СПб.: Издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1869. -Т. 2. -693 с.; 1870. -Т. 3. -699 с.
- Cormack R. Byzantine Art. -Oxford: University Press, 2000. -245 р. (Oxford history of art).