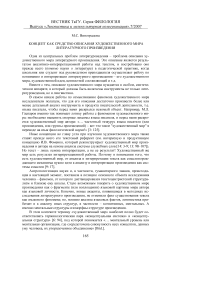Концепт как средство описания художественного мира литературного произведения
Автор: Виноградова Мария Станиславовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Сообщения по результатам исследований
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120444
IDR: 146120444
Текст статьи Концепт как средство описания художественного мира литературного произведения
КОНЦЕПТ КАК СРЕДСТВО ОПИСАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Одна из центральных проблем литературоведения – проблема описания художественного мира литературного произведения. Это описание является результатом аналитико-интерпретационной работы над текстом, и востребовано оно прежде всего (помимо науки о литературе) в педагогической практике, когда школьник или студент под руководством преподавателя осуществляет работу по пониманию и интерпретации литературного произведения – его художественного мира, художественной идеи, ценностной составляющей и т.д.
Вместе с тем, описание художественного мира нуждается в особом, синтетическом аппарате, в который должны быть включены инструменты не только литературоведения, но и лингвистики.
В самом начале работы по осмысливанию феномена художественного мира исследователи полагали, что для его описания достаточно произвести более или менее детальный анализ инструмента и продукта писательской деятельности, т.е. языка писателя, чтобы перед нами раскрылся искомый объект. Например, М.Л. Гаспаров именно так понимает логику работы с феноменом художественного мира: необходимо выяснить опорные лексемы языка писателя, и перед нами раскроется художественный мир автора: «… частотный тезаурус языка писателя (или произведения, или группы произведений) – вот что такое "художественный мир" в переводе на язык филологической науки!» [3: 125].
Иные концепции во главу угла при изучении художественного мира также ставят прежде всего его текстовый референт (см. интересную и продуктивную концепцию И.В. Фоменко, который реконструирует художественный мир произведения и автора на основе анализа системы служебных слов [14: 3-9; 13: 98–107]). Но текст – лишь основа интерпретации, а не ее результат! Художественный же мир есть результат интерпретационной работы. Поэтому в понимании того, что есть художественный мир, от анализа и интерпретации текста как смыслопорождающего механизма нужно идти к анализу и интерпретации произведения как системы смыслов [9: 17].
Антропологизация науки и, в частности, гуманитарного знания, происходящая в настоящий момент, поставила в позицию основного объекта исследования человека – феномен, от которого дистанцировался текстоцентристский структурализм и близкие ему школы. Стало возможным говорить о художественном мире произведения как о фрагменте (или воплощении) языковой картины мира автора как языковой личности. Конечно, новые акценты, появившиеся в методиках исследования литературного произведения, не отменили факт существования текста как языкового феномена; но, помимо анализа языковых фактов, лингвистика прибегает и к анализу иных структур, в частности – когнитивных, ментальных. А именно ментальные структуры изоморфны структуре произведения.
В этом контексте термину «художественный мир» наиболее полно будет соответствовать терминологическая пара «концептуальная система» и «концептуальная структура» [6: 94], под которой понимается «… ментальный уровень или ментальная организация, где сосредоточена совокупность всех концептов, данных уму человека, их упорядоченное объединение» [Ibid.].
Некоторые сведения по поводу структуры данных образований можно найти в психолингвистических и когнитивистских исследованиях, касающихся близких концептосфере и художественному миру, но не тождественных ей феноменов (о необходимости дифференцировать такие феномены, как концепт и ментальная репрезентация, концептуальная структура и ментальный лексикон, концепт и смысл см.: [6: 95]). Так, можно предположить, что организация концептосферы тождественна организации, характерной для внутреннего (ментального) лексикона индивида, концепция которого была разработана в 1977 году А.А. Залевской и впоследствии развита ее учениками.
На этой основе концептосфера может быть представлена как самоорганизующаяся сложная система, подчиняющаяся принципам, описанным в теории хаоса и теории сложных систем (подробно см.: [5: 7]). Релевантными для концептоло-гии здесь могут быть признаны понятия аттрактора (концепта или метаконцепта, выполняющего организующую роль в формировании структуры, ядра и периферии концептосферы), флуктуации (отклонения или колебания, возникающего в результате проникновения в систему новой информации, энергии, что приводит к самоорганизации системы в новом формате), бифуркации (краткосрочного процесса хаотического поведения системы, во время которого происходит выбор нового аттрактора).
Поскольку лингвокультурный концепт есть трехуровневое образование, два уровня которого относятся к сфере ментальности и языка соответственно [11: 8], можно предположить, что ментальный лексикон – это та часть (оболочка) концеп-тосферы, которая осуществляет ее связь с языком и непосредственно обращена к практике коммуникации. Инструмент ментального лексикона – значение, содержание концептосферы – смысл, и они связаны друг с другом как операторы коммуникации (об отношениях между данными феноменами в процессе художественной коммуникации см.: [1: 53]), в процессе которой лексическая единица (ключевое слово, семантически наиболее «нагруженное»), выполняя роль аттрактора на уровне ментального лексикона, порождает бифуркационно-флуктуационные процессы также и на уровне концептосферы, переформатируя ее в процессе развертывания художественного семиозиса. Но, поскольку текстовые аттракторы реализуют определенный авторский замысел (это «дозированная» авторским замыслом аттракция), можно считать, что «хаос» художественной концептосферы есть «управляемый», программируемый хаос.
Поскольку концепт в художественном произведении представляет собой специфичное образование, целесообразно поставить вопрос о особенностях «художественного концепта». Связано же решение этого вопроса с самим феноменом художественности и с возможностями его рассмотрения в рамках лингвистической концептологии.
Г.Г. Слышкин, говоря о художественных концептах, имеет в виду прежде всего метаконцепт как результат вторичной концептуализации и феномен прецедентного текста (мира) – как контекст, в котором на основе художественного метаконцепта происходит переосмысление неких актуальных концептов, «здесь и сейчас» участвующих в коммуникации [11: 27]. При этом исследователь в принципе не касается вопросов порождения художественного концепта (метаконцепта), его структуры, функции, его соотношения с феноменом концептосферы и т.д. Несмотря на значительную сложность данной проблемы, а также на обилие мате- риалов, существующих по проблеме художественности, остановимся на данном вопросе в жанре рабочей гипотезы.
Из всех концепций художественности наиболее адекватной нам представляется восходящая к формалистам концепция «искусства как приема» (В.Шкловский) – адекватной потому, что ищет истоки художественности не за пределами текста, а в нем самом. С точки зрения формалистов, эффект художественности вызывается механизмом остранения, который заставляет реципиента увидеть объект как бы внове, в необычном, непривычном ракурсе. Это эффект «оживляет» слово, снимает автоматизм восприятия, включает механизмы создания образности (современная терминологическая трактовка данных эффектов, возникшая в рамках филологической герменевтики, – актуализация; см.: [12]).
Главная особенность художественного концепта – его непосредственная сли-янность с ключевым словом (дескриптором, в терминологии Ю.Н. Караулова). Связано это с образной природой искусства. Если следовать Гегелю, образ есть «чувственное изображение абсолютного» [4: 75], а потому художественный знак демонстрирует особую логику взаимоотношения означающего и означаемого. Означающее не означает означаемое, а есть означаемое – и наоборот. К примеру, звук «лопнувшей струны» в пьесе «Вишневый сад» есть не что иное как звук лопнувшей струны.
Но, одновременно, он есть и нечто большее.
Эта «большее» как вторая особенность художественного концепта связано с его «абсолютным» (по Гегелю) началом, которое может быть описано на основе идей структурализма. Так, с точки зрения Ю.М. Лотмана, искусство есть форма миромоделирования [7: 46]; а потому художественное произведение обязательно несет в себе целостное знание о мире – так, как этот мир видит художник. Иными словами, художественный мир всегда несет в себе больше, чем просто изображение фикционального и фактуального миров (подробнее см.: [10: 154–155]). И фик-циональное, и фактуальное начало подчинены началу миромоделирующему, которое и оформляется как художественный концепт (или иерархически построенная система концептов, где низшие члены иерархии обуславливают структуру концеп-тосферы, предположим, на уровне одного произведения, более высокие – на уровне, предположим, цикла, далее – всего творчества писателя, наконец – национальной литературы и т.д.), подчиняющий задачам миромоделирования «локальные», частные концепты художественной картины мира. «Звук лопнувшей струны» [16: 526] у Чехова, поэтому, издает не «птица какая-нибудь… вроде цапли… или филина»; и это не «в шахтах сорвалась бадья» [Ibid.], не некий «частный» звук, как полагают персонажи пьесы. Этот звук относится к состоянию мира, в котором живут герои Чехова.
Но не «обозначает» его. Литературное произведение (в данном случае – чеховское) не содержит обобщающих рассуждений по поводу «состояния мира» – это компетенция ученого, педагога, судящего о чеховской пьесе. В литературном произведении художественная идея как чувственное воплощение абсолютного есть система концептов, которые вступают друг с другом в определенные отношения, продиктованные спецификой художественного произведения.
Специфика эта предопределена динамическим характером бытия последнего, а также особым характером взаимодействия его элементов. В процессе развертывания литературно-художественного текста порождаемые (актуализируемые) им концепты вступают в отношения со-противопоставления [8: 48], выполняя по от- ношению друг к другу метаконцептуальную функцию. Так, «звук лопнувшей струны» как метаконцепт сообщает совершенно особую семантику концептам, относящимся к бытию героев чеховской драматургии, придавая черты абсурдности всем их занятиям (они «едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки» [16: 335]) – нет смысла, нельзя жить в мире с «вывихнутыми суставами» (Шекспир), жить так, как они живут. Но и бытие героев пьесы есть метаконцепт по отношению к «звуку струны» – струны мира «лопаются» только там, где люди безответственны по отношению к нему – так, как безответственны чеховские персонажи.
Это со-противопоставление концептов и их взаимная метаконцептуализация порождают «мерцание» смыслов (смысл как процесс и результат «с-мысливания» концептов), которое никогда не затухает, – в этом основа жизнеподобия художественного произведения, где концепт постоянно совершает трансуровневые перемещения, становясь либо референтом частного феномена, либо принципом организации всех феноменов художественного мира.
Эти трансуровневые перемещения предопределены самим развертыванием литературно-художественного текста и вторым принципом его структурной организации, который Ю.М. Лотман называл принципом возвращения [8: 49].
Так, в чеховском рассказе «Случай из практики» (1898) заглавие, которое по определению есть репрезентант семантики текста [2], предопределяет особый формат рецепции произведения – она основана на реализации метаконцепта СЛУЧАЙНОСТЬ : все, что происходит с героем рассказа Королевым и с населением фабричного поселка, куда забрасывает его судьба, случайно. Случайно физическое и моральное нездоровье рабочих фабрики, случайна и досадна болезнь Лизы, дочери хозяина фабрики, случайна и неуместна сама фабрика ( ФАБРИКА – второй ведущий концепт, на котором основан художественный мир рассказа).
Но постепенно, по мере развертывания рассказа, и ведущий метаконцепт, и те концепты, которые он подвергает своему форматирующему воздействию, видоизменяют свою семантику – как тип связи между конкретными концептами СЛУЧАЙНОСТЬ обретает черты закономерности и определенности. В частности, в данном рассказе дескриптором метаконцепта ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ становится лексема дьявол (что может быть определеннее как концепт?): И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол , который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех и других» [15: 332]. Концепт же ДЬЯВОЛ как перевыражение концепта ФАБРИКА становится одновременно и метаконцептом по отношению к концепту СЛУЧАЙНОСТЬ . Дьявол ответственен за случайность бытия чеховских героев и за все последствия этой случайности (в том числе и болезни, неурядицы, бессмысленность бытия и т.д.). Таким образом значительно расширяется семантика и заглавия, и всего художественного мира рассказа – ответственность есть форма закономерности. И происходит это за счет трансгрессии, взаимоперевыражения концептов и метаконцептов.
В этом – принципиальное отличие концепта (и метаконцепта) нехудожественного от художественного концепта (и метаконцепта). Художественный концепт есть слиянность означающего и означаемого, нерасчлененность лингвистического и ментального. Метаконцептуализация становится функцией любого художественного концепта, поскольку каждый концепт в принципе «заряжен» миромоделирующим потенциалом. Художественный концепт есть недискретное образование, он есть часть динамической системы, логика которой – подчиненные принципам «направленного» хаоса взаимная семантизация и взаимное перевыра-жение включенных в нее концептов. Все же произведение есть, одновременно, и совокупность концептов, каждый из которых находится в метапозиции по отношению к прочим, и единый концепт, вписывающийся в более широкую метакон-цептуальную систему.