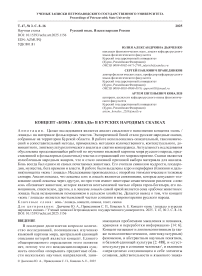Концепт «Конь / лошадь» в курских народных сказках
Автор: Дьяченко Ю.А., Праведников С.П., Ковалев А.Е.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 3 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования является анализ смыслового наполнения концепта «конь / лошадь» на материале фольклорных текстов. Эмпирической базой стали русские народные сказки, собранные на территории Курской области. В работе использовались описательный, таксономический и сопоставительный методы, применялись методики количественного, контекстуального, доминантного, лингвокультурологического анализа и сжатия конкорданса. Актуальность исследования обусловлена продолжающейся работой по изучению языковой картины мира русского народа, представленной в фольклорных (сказочных) текстах и отражающей его мировосприятие. Сказки являются излюбленным народным жанром, что и стало основной причиной выбора материала для анализа. Конь всегда был одним из самых почитаемых животных. Его считали символом мудрости, плодородия, мужества, бега времени и власти. В работе были выделены ядро и периферия (ближняя и дальняя) концепта «конь / лошадь». Исследование производилось с опорой на этимологические и толковые словари. Анализ показал, что лексемы конь и лошадь являются синонимами, которые допускают толкование одной лексемы через другую, но при этом имеют некоторые семантические различия: слово конь обозначает животное, которое является неотъемлемой частью образа героя-богатыря, его помощником, спасителем, другом, а в лексеме лошадь самой яркой является сема «рабочее животное»: лошадь была незаменимым помощником в сельском хозяйстве. Делается вывод о том, что концепт «конь / лошадь» является неотъемлемой частью сознания и мировоззрения русского народа.
Конь / лошадь, концепт, символ, текст, сказка
Короткий адрес: https://sciup.org/147247870
IDR: 147247870 | УДК: 801.81 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1156
Текст научной статьи Концепт «Конь / лошадь» в курских народных сказках
В последние десятилетия возросло количество исследований, посвященных изучению языковой картины мира, центральной единицей описания которой является концепт. Единого общепризнанного определения этого понятия нет, потому что его междисциплинарная сущность способна «покрывать предметные области нескольких научных направлений, зани-
мающихся проблемами мышления и познания, хранения и переработки информации» [14: 6]. Концепт называют и лингвокогнитивным (а также психолингвистическим, лингвокультурным) феноменом, и абстрактным научным понятием, и базовой единицей культуры [2: 488], и «сгустком культуры в сознании человека»1, и явлением «неразделимо соединяющим в себе элементы сознания, действительности и языкового знака»
[19: 28]. Как видно, концепт – философское понятие и имеет отношение к сознанию человека. Анализируя его дефиниции, можно выделить ряд общих признаков, которые отмечаются многими учеными: 1) концепт – это некий идеальный объект; 2) он не может существовать вне сознания человека; 3) тесно связан с другими концептами; 4) обладает национально-культурными особенностями; 5) «опредмечивается» различными языковыми средствами; 6) имеет многокомпонентную структуру, которую образуют различные концептуальные слои [1: 81]. Суммируя все вышеперечисленное, можно сказать, что концепт – это «единица коллективного знания / сознания <…> имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [4: 70].
Мы уже обращались к этому уникальному явлению на стыке различных научных направлений, анализируя концепт «подарок» в русских частушках [6]. Фольклорные произведения являются благодатным материалом для исследования языковой картины мира определенного этноса, потому что в устном народном творчестве находят свое отражение народные знания, представления о мире и его оценка, а также понимание человеком своего места в этом мире.
Целью данной работы является анализ смыслового наполнения концепта «конь / лошадь» на материале фольклорных текстов. Ранее учеными уже рассматривались особенности употребления лексемы «конь» в фольклорных песнях [11] и народных сказках [12]. Авторы этих работ пришли к выводу, что в лирическом жанре образ коня «чаще всего реализуется в контекстах, где речь идет о любви, готовности к браку» [11: 56], а в сказочных текстах
«конь выступает в качестве помощника доброго молодца или Ивана-дурака, являясь ему и верным другом, и боевым товарищем, и мудрым советчиком, и находчивым соратником во всех делах» [12: 123].
В последней работе осуществлялся анализ лексемы конь (слово лошадь исследователем не рассматривалось) на небольшом количестве сказок, представленных в «Лексикографическом комплексе фольклорных текстов» [17]. В своем исследовании мы предпринимаем попытку на материале более полного собрания сказок всесторонне охарактеризовать базовые имена и структурные компоненты концепта «конь / лошадь», так как он является «значимым для понимания русской лингвокультуры. В нем сконцентрированы представления о мировидении народа, его военной и хозяйственной жизни» [8: 213]. Это обуславливает новизну данной работы. Исследование было проведено на основе описательного, таксономического и сопоставительного методов, применялись методики количественного, контекстуального, доминантного и лингвокультурологического анализа, а также методика сжатия конкорданса, благодаря которой были учтены все случаи употребления лексем, вошедших в поле исследуемого концепта.
Сказку определяют как рассказ,
«выполняющий на ранних стадиях развития в доклассовом обществе производственные и религиозные функции, т. е. представляющий один из видов мифа; на поздних стадиях бытующий как жанр устной художественной литературы, имеющий содержанием необычные в бытовом смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и отличающийся специальным композиционно-стилистическим построением» [7: 56].
Эмпирической базой нашего исследования стали русские народные сказки, собранные на территории Курского края. В первый сборник «Фольклор : частушки, песни, сказки, записанные в Курской области»2, вышедший еще в 1939 году, вошли 24 сказки, собранные в период с середины XIX века до 30-х годов XX века. Во второй сборник – «Русские народные сказки Курского края» (РНСКК)3 включены тексты из архива филологического факультета Курского государственного университета. Это собрание формировалось в основном в 70-е годы прошлого столетия, когда активизировалась собирательская деятельность на факультете. Сюда вошли 203 сказочных текста.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЯЗЫКОВАЯ СТРУКТУРА КОНЦЕПТА «КОНЬ / ЛОШАДЬ»
В сказках часто присутствуют животные. Они могут быть человеку как врагом, так и другом, помощником. Кроме того, ученые отмечают, что «животные часто являются мерилом многих человеческих качеств – как физических, так и нравственных. Соответственно, животные <…> всегда были в центре внимания человека» [9: 164].
Полкан-Полканыч, Сивка-Бурка, Сивка являются ядром концепта . Сюда мы отнесли также слово тройка , так как в рассматриваемых текстах оно употребляется только в значении ‘три лошади, запряженные рядом в один экипажʼ4 [МАС: 4: 414], и слово скотина , являющееся обобщенным, родовым наименованием, но употребленным в отношении лошади.
Психолингвистическое значение концепта, как утверждают ученые, «структурировано по полевому принципу, а образующие его компоненты образуют иерархию по яркости» [16: 68]. Это позволило выявить ближнюю и дальнюю периферию интересующего нас концепта. «Принадлежность к той или иной зоне содержания определяется прежде всего яркостью признака в сознании носителя соответствующего концепта» [16: 81]. С опорой на ассоциативные связи к ближней периферии мы отнесли наименования масти как наиболее типичные характеристики коня или лошади (сивый, вороной), частей тела (голова, грива и т. д.), лошадиной сбруи и утвари (седло, подкова, хомут), соответствующих действий, связанных с лошадиной сбруей и утварью (запрячь, оседлать и т. д.), помещения для лошадей (конюшня), а также лица, ухаживающего за конями / лошадьми (конюх). Дальнюю периферию составили лексемы, обозначающие действия с участием лошади / коня (пахать, пастись и др.), лица, чья деятельность связана с этими животными (извозчик), а также конный транспорт (карета, сани и др.) (таблица, цифры рядом со словами указывают их частотность).
Языковая структура концепта «конь / лошадь» Linguistic structure of the concept of the steed/horse
Ядро концепта
Лошадь 102 , конь 63 , жеребенок 13, тройка 13, жеребец 10, конёк 9, Сивка-Бурка 6, кобыла 5, конишко 4, лошаденка 4, жеребеночек 3, лошадка 3, Полкан-Полканыч 3 (кличка коня), кобылка 2, Сивка 2, кобылица 1, скотина 1
Периферия концепта
Ближняя масть
части тела
лошадиная сбруя и утварь действия, связанные с лошадиной сбруей и утварью помещение для лошадей лицо, ухаживающее за конями / лошадьми
действия и явления с участием коня лицо, чья деятельность связана с конями / лошадьми конный транспорт
Рассмотрим далее ядерную лексику концепта, а именно самые частотные слова – лошадь и конь – и исследуем их связи и отношения. Для начала обратимся к этимологии данных лексем. Так, слово лошадь, по мнению авторов «Краткого этимологического словаря русского языка», образовалось при помощи суффикса -адь от заимствованного из тюркского языка алаша ‘лошадь, мерин’5, а вот происхождение лексемы конь неясно. Ученые предполагают, что это слово могло быть образовано от основы *koby , от которой произошло слово kobyla (русское кобыла ), с помощью суффикса -nь 6. П. Я. Черных выдвигает версию, что слово конь, возможно, связано с общелавянским kovati ‘обычай, искусство подковы лошадей, перенятый славянами у германцев’7. Можно предположить, что «первоначально слово конь означало ‘подкованное животноеʼ» [8: 214].
сивый 3, вороной 1
мясо 7, копыто 6, шкура 4, голова 3, грива 3, хвост 3, кости 2 / косточки 1, лошадиный череп 2, волосик 1
хомут 4, подкова 1, седло 1
запрячь 5, выпрячь 3, оседлать 3, ожеребиться 1, седлать 1 конюшня 4
конюх 1
Дальняя пахать 21, пашня 2, ковать-перековывать 1, пастись 1, погоня 1 извозчик 1
карета 9, сани 6, телега 5, шарабан 1
В современных толковых словарях значение слова конь дается через синоним лошадь с уточнением, что так говорят преимущественно о самце, и встречается это слово чаще в речи военных, в коннозаводческой практике, а также в поэтической речи [МАС: 2: 98], [БАС8: 5: 690]. Слово лошадь трактуется как ‘крупное домашнее животное, используемое для перевозки людей, грузов и т. п.ʼ [МАС: 2: 202] или как ‘крупное домашнее однокопытное животное из семейства лошадиных, ходящее в упряжи или под седломʼ [БАС: 6: 197]. Как видно из рассмотренных дефиниций лексемы лошадь , преобладает «функционально-ориентированный взгляд человека на это животное» [3], то есть преимущественно оно предназначено для выполнения каких-либо хозяйственных работ. Это находит подтверждение и в рассматриваемых нами текстах сказок:
«Когда пропели вторые петухи, старик запряг лошадь и старуха поехала » (Фолькор: 53).
«Приходит он на свое поле и видит, что два человека в красных рубахах на его лошади пашут землю его брата» (РНСКК: 97).
Наличие в хозяйстве лошади зачастую обеспечивало семье безбедную жизнь. Даже корова порой не так ценилась, как лошадь:
«Погоревали и решили продать корову и купить лошадь . Купили лошадь и забыли про горе : без коровы не то, что без лошади » (Фольклор: 54).
В редких случаях фигурирует в домашней работе и конь:
«- Ну, бери, дурак, запрягай коней , едь у лес и руби хворосту» (РнСкК: 171).
Чаще всего конь встречается в сказочных текстах про богатырей, где это животное является неотъемлемой частью образа героя, его другом и помощником:
« Конь , увидя молодца-богатыря, ударил копытами о землю и произнес человеческим голосом: “Вот когда нашелся мне хозяин”» (Фольклор: 83).
«Приходит Незнайка к коню , а тот говорит: “Что ты, друг не весел, что ты голову повесил?”» (РНСКК: 118).
О ценности этого животного говорит и тот факт, что в сказках положительному герою или героине, помимо прочего, его часто дарят:
«Он дал ему [старичок дурню] коня , доспехи и войско» (РНСКК: 51).
«Подарил он ей [медведь Маше] стадо лошадей и сундук добра» (РнСкК: 170).
Характеристика лексем конь и лошадь в сказках следующая: лошадь может быть живой (2), быстрой (1), красивой (1), палой (1), породистой (1), слабой (1), хорошей (1):
«Приходит мать домой, а сыновья нарядные и лавками торгуют; ворота тесовые, весь двор загорожен; лошади хорошие , конюшня новая» (РНСКК: 88).
Конь - верным другом (1), вороным (1), подходящим (1): «Сколько он конюшен не обходил, нигде не было подходящего коня » (Фольклор: 83).
В отличие от лошади, конь в курских сказках может иметь имя - Полкан-Полканыч или Сивка-Бурка (Сивка как вариант). Полкан в древнерусской мифологии – полуконь-получеловек из числа берегинь мужского рода. «До пояса он имел тело и сложение человеческое, а ниже пояса являл собою коня» [5: 505]. В сказке мы наблюдаем некую трансформацию мифического полуконя Полкана в коня Полкан-Полканыча, который так же, как и его прообраз, обладает удивительной силой:
«У царя был конь Полкан-Полканыч , съедал триста мер овса и выпивал сто ведер воды, делал семь верст одним шагом» (Фольклор: 85).
Сивка-Бурка также полуконь из числа берегинь, помогающих человеку. Он «владеет речью, дает советы, укоряет героя, если тот его не послушался, иногда выполняет за него задания, а то и спасает от смерти» [15: 91]. Сказка «Сивка-Бурка» известна давно. Курский вариант схож с общеизвестным, но имеет и свои особенности: Сивка-Бурка (или Сивка) здесь не говорит, но во всем помогает главному герою, который тоже обладает некоторой волшебной силой (грибы у него сами собираются, пока он добывает перстень царицы). Полное имя коня – Сивка-Бурка, вещая каурка, то есть он трехцветный: сивый (белый, серый), бурый (темно-рыжий) и каурый (огненно-рыжий). Как считают ученые, это намек на потустороннее происхождение коня [18: 308– 309]. Прилагательное вещий ( вечный в курском варианте) говорит о способности коня предвидеть будущее. Недаром он знает заранее, что будет нужно герою:
«Младший становится на опушке, как свистнет, как крикнет, как гаркнет: “ Сивка-Бурка , вечная каурка, стань передо мной, как лист перед травой”. Сивка как прилетел. Он в одно ухо влез, а в другое вылез красавец» (РНСКК: 156).
Еще одна частотная ядерная лексема тройка , которая, как нами уже отмечалось, в сказках употребляется только в значении ‘три лошади, запряженные рядом в один экипажʼ [МАС: 4: 414]. Тройка лошадей – это своеобразный национальный символ, олицетворяющий такие черты русского характера, как жизнерадостность, удаль, размах. Это с одной стороны. С другой стороны, иметь тройку лошадей мог только зажиточный человек, например помещик, что может служить и символом богатства. Первое значение в курских сказках выражено неярко, а при выявлении второго значения во многих случаях в контексте указывается именно помещик как владелец тройки:
«Вдруг он видит летит тройка , поднимая пыль столбом» (РНСКК: 61).
«Жена сейчас же поведала ему о том, что приходил какой-то дурак и пригласил на свадьбу нашу Пеструшку с поросятами, и что она приказала запрячь тройку и отправила свинку на свадьбу. Возмущенный помещик сказал, что дурней своей жены он еще не встречал, и отправился в погоню на той тройке , на которой вернулся из города» (РНСКК: 150).
Остальные лексемы из ядра рассматриваемого концепта являются синонимами самых частотных слов конь и лошадь . Об этом говорят словари, и это подтверждают тексты сказок. Так, лексема жеребец толкуется как ‘самец лошадиʼ, жеребенок – ‘детеныш лошадиʼ [МАС: 1: 448], а жеребеночек – ‘уменьш.-ласк. к слову жеребенок ʼ [БАС: 4: 48]:
«Жил-был мужик, было у него семь овец, жеребец , собака Жучка да дочка Катерина» (РНСКК: 112).
«Была у купца породистая лошадь, а жеребеночку ее и месяца еще не исполнилось» (РНСКК: 51).
Однокоренные слова конёк и конишко – семантико-стилистические синонимы лексемы конь . Слово конёк в словаре толкуется как ‘уменьш.-ласк. к конь ʼ [МАС: 2: 88] и встречается только в сказке «Незнайка», при чтении которой возникает стойкая ассоциация с коньком-горбунком – еще одним сказочным героем, который внешне очень невзрачен, но говорит человеческим голосом и обладает необычайной силой. Словарная помета здесь оправдана:
«Вот встречает мальчика конё'к и говорит ему: “Ты помойся, а рубаху старую надень, а новую над огнем подержи”» (РНСКК: 117).
Лексема конишко толкуется как ‘уничижит. к конь ʼ [БАС: 5: 650] и тоже встречается только в одной сказке – «Митрошка». Конишко здесь является помощником главного героя. Его полное имя - конишко-широкий лобишко - сопровождается несогласованным определением верный друг , и ничего уничижительного здесь нет: «Но тут на помощь ему пришел верный друг конишко - широкий лобишко » (РНСКК: 12).
Однокоренные лексемы кобыла - ‘взрослая лошадь-самкаʼ, кобылица ‘то же, что кобылаʼ и кобылка ‘уменьш.-ласк. к кобыла ʼ [БАС: 5: 546–547] являются полными ( кобыла ) или стилистическими ( кобылица, кобылка ) синонимами лексемы лошадь :
«Решила она пойти в работники к помещику, у помещика ожеребилась кобыла » (РНСКК: 22).
«Дождал двенадцати часов ночи, вышла Елена, он ее украл и сам сел на кобылицу и ускакал» (Фольклор: 87).
«Старуха свекровь еще в силе была, и ребята помогали, так и вырастили они кобылку , красивей которой и не было в округе» (РНСКК: 52).
Рассматривая лексемы ближней периферии, можно заметить, что наименования конской масти в сказочных текстах не отличаются разнообразием и частотностью. Прилагательное сивый , толкующееся в словарях как ‘серовато-сизый, пепельно-серый (о масти лошади)ʼ [МАС: 4: 89], в одном случае синтагматически связано с ядер-ной лексемой жеребец , а в двух других примерах выступает синонимом лексемы лошадь :
«Пришел волк под двор и воет: “А у дедушки, а у бабушки пять овец, и сивый жеребец, и курочка ряба, и телушечка-сестра”» (РНСКК: 13).
«“Чего плачешь, сивая ?” - спросила она лошадь» (РНСКК: 34).
«“- Не горюй, сивая !” - успокаивает ее ворона» (РНСКК: 34).
Лексема вороной ‘черный (о масти лошади)’ [МАС: 1: 212] встретилась лишь однажды в характеристике конька, хотя в других фольклорных произведениях, в частности в русских народных песнях, собранных на территории Курского края, является частотной [11: 53]: «Не было у них ничего, один конёк вороной » (РНСКК: 134).
Большинство лексем ближней периферии называют части лошади – мясо, копыто, шкура, голова, грива, хвост и т. д. В древности коня / лошадь часто приносили в жертву. «По археологическим данным, конь <…> был главным жертвенным животным на похоронах, проводником на “тот свет”»9 [СД: 3: 583]. В сказке мы видим отголоски этого обряда, когда герой убивает лошадь, данную ему царем, а ее мясо скармливает птицам, будто задабривая потусторонние силы. Из шкуры лошади делает шатер и дожидается в нем своих соперников:
«Дернул [лошадь] за хвост , снял шкуру , а мясо выбросил: “Вороны и галки, царь мясо прислал!”. Сделал себе шатер из шкуры . Сивку-Бурку призвал к себе. Едут бояре...» (РНСКК: 158).
Некоторые из лексем ближней периферии входят в состав описательных конструкций, демонстрирующих красоту и волшебную силу коня / лошади. Часто именно в гриве скрыта волшебная сила этого животного:
« Копыты обиты жемчугом, грива блестит, словно золото» (Фольклор: 83).
«Выдерни сейчас из гривы три волосика. Выдернул Иван и сразу к нему бежит кобыла богатыря. Из рта пламя, из-под копыт огонь» (Фольклор: 86).
Лошадиная сбруя и утварь как часть ближней периферии в рассматриваемом контексте представлены тремя лексемами - хомут, подкова и седло . Их наличие подтверждает ранее высказанную мысль о функционально-ориентированном взгляде человека на лошадь – без этих элементов упряжи ее не запрячь и не сесть верхом, не начать работы:
«Видят: мужик на ворота хомут повесил, погоняет лошадь по двору, чтобы та сама в хомут запряглась» (РНСКК: 137).
«Вскочил тут Иван в седло и поскакал» (РНСКК: 53).
«Вин подковы ковал-перековывал, всем он сказки гуторил-пересказывал» (РНСКК: 10).
В ближнюю периферию мы включили существительное конюшня - место, где содержатся лошади; а также различные глаголы, семантика которых указывает на тесную связь с конем / лошадью: запрячь - выпрячь, то есть прикрепить посредством упряжи к экипажу или к какому-либо орудию лошадь или, наоборот, осво- бодить от упряжи; седлать – оседлать: надевать или надеть седло на спину лошади; ожеребиться – родить жеребенка. Эту связь подтверждает и контекст:
«Сын услышал про все это, стал ходить по конюшням выбирать себе коня» (Фольклор: 83).
«Барин приказал кучеру запрячь лошадь , уложить свинью с поросятами и отдать мужику» (РНСКК: 62).
«Натянули сапоги, оседлали коней » (РНСКК: 116).
«Решила она пойти в работники к помещику, у помещика ожеребилась кобыла » (РНСКК: 22).
Последняя группа ближней периферии содержит лексему, номинирующую лицо, ухаживающее за конями / лошадьми, – конюх . Это ‘работник, занятый уходом за лошадьмиʼ [БАС: 5: 691]. Такая репрезентация лексемы подтверждается и текстом:
«Поставила вдова вместо подписи три креста (грамоте тогда крестьян-то не учили), приняла у конюха жеребеночка из полы в полу и побрела домой» (РНСКК: 52).
Лексемы, представляющие дальнюю периферию, могут вызвать сомнения по поводу их связи с концептом «конь / лошадь», поэтому рассмотрим их подробнее и докажем, что такое отнесение было правомерным.
Все эти слова мы разделили на три группы. В первую вошли лексемы, номинирующие действия ( пахать, ковать-перековывать, пастись ) и явления с участием коня ( пашня, погоня ). Самое частотное слово группы – пахать – в словаре толкуется как ‘взрыхлять землю для посеваʼ, а далее в словарной статье уточняется – ‘о животных, с помощью которых пользуются орудиями для вспашкиʼ [БАС: 9: 162]. На первом месте среди таких животных находится лошадь. В текстах курских сказок такое действие выполняется только этим животным:
«Пришли в поле, стали пахать по очереди, сначала старший. Пахал, пахал , уморился, говорит среднему: “ Попаши ты, чтобы мы боле напахали ”. Средний пахал, пахал , уморился, зовет меньшего. Вот он пахал, пахал , а лошадь в борозде упала и издохла» (РНСКК: 95).
С глаголом пахать тесно связано однокоренное с ним существительное пашня , которое в сказках употребляется только в синтагматической связи с этим глаголом: «Детки станут пашню пахать , а я буду под окном сидеть да приказы давать» (РНСКК: 105).
Глагол ковать, входящий в состав сложного слова ковать-перековывать, в словаре лишь в 3-м значении имеет отношение к лошади – ‘подковывать лошадьʼ [БАС: 5: 549]. Этот глагол в рассматриваемом контексте опосредованно связан с лексемой конь через существительное ближней периферии подкова, что обусловило его включение в состав концепта: «Вин подковы ковал-перековывал, всем он сказки гуторил-пересказывал» (РНСКК: 10).
Глагол пастись в значении ‘быть на подножном корму (о скоте, птице и т. п.)ʼ в рассматриваемых сказках имеет отношение только к коню: «Нашел он тогда поляну, сел под дубом, коня пустил пастись и хотел отдохнуть» (Фольклор: 81).
Слово погоня ‘преследование с целью поимки бежавшего или ушедшегоʼ [БАС: 10: 97] по значению также далеко от лексемы конь , но в нашем контексте эта операция осуществляется именно при помощи коня: «Царь в погоню послал своего Полкан-Полканыча, но он его не догнал» (Фольклор: 87).
Вторая группа дальней периферии содержит лексему, номинирующую лицо, чья деятельность связана с конями / лошадьми, – извозчик (‘кучер наемного экипажа, повозки; возницаʼ [БАС: 5: 67]). Здесь нет прямого указания на связь с рассматриваемым концептом, но если обратиться к толкованию лексемы кучер , то можно увидеть эту связь: ‘работник, правящий лошадьми, запряженными в экипаж, возницаʼ [БАС: 5: 959]: «Ребенок начал кричать, ехали извозчики -мужики и подобрали этого ребенка» (СКК: 110).
О том, что конь / лошадь часто используется для перевозки людей, мы упоминали ранее. Люди ездили не только верхом, но и запрягали лошадь в различные средства передвижения. Последняя, третья, группа дальней периферии включает в себя лексемы, репрезентирующие встретившийся в сказках конный транспорт: карету, сани, телегу, шарабан.
Существительное карета в словаре толкуется как ‘закрытый со всех сторон четырехколесный конный экипаж на рессорахʼ [БАС: 5: 412]. Надо отметить, что это наиболее удобное и дорогое средство передвижения, поэтому в сказках карета часто становится показателем богатства и знатности: «Не послушала царя царевна, послала охотнику платье царское и карету » (РНСКК: 80).
Сани и телега – наиболее привычные для деревенского быта сезонные транспортные средства, на которых перевозили не только людей, но и различные грузы – дрова, сено и т. д. Если сани – это ‘зимняя повозка на полозьяхʼ [БАС: 13: 79], назначение которой в словаре не уточняется, то телега толкуется как ‘крестьянская четырехколесная повозка с низким кузовом и оглобельной или дышловой упряжкой, служащая обычно для перевозки грузовʼ [БАС: 15: 105]. В рассматриваемых нами сказках сани в основном служат в качестве средства передвижения, а телега оправдывает свое словарное значение и используется как повозка для перевозки грузов:
«Завернул муж ее в солому, положил в сани и повез» (РНСКК: 141).
«Взял он с батраком взвалили этот короб на телегу и повезли по большой дороге» (РНСКК: 124).
Еще одно средство передвижения – шарабан. Эта лексема имеет два значения: ‘старинный открытый четырехколесный экипаж с поперечными сидениями в несколько рядовʼ и ‘легкий одноконный двухколесный экипаж на высоких колесахʼ [БАС: 17: 640]. Слово шарабан встретилось лишь в сказке «Марина и Грицко», и по контексту можно предположить, что в первом значении, так как везла шарабан тройка лошадей: «Ну, отслужил Иван, едет домой и по дороге встречается тройка. На ней никого нет, один шарабан » (РНСКК: 134).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы. По данным словарей, лексемы конь и лошадь являются синонимами, которые допускают толкование одной лексемы через другую, но при этом имеют некоторые семантические различия: слово конь обозначает животное, которое является другом, помощ- ником, спасителем героя-богатыря, в лексеме лошадь самой яркой является сема «рабочее животное», без которого человек не мыслил свое существование. Лошадь была незаменимым помощником в сельском хозяйстве: перевозила людей и грузы, пахала землю и т. д. Выявление ядра рассматриваемого концепта, основу которого составили полные и стилистические синонимы, а также его ближней и дальней периферии, в состав которых вошли наименования масти, частей тела, сбруи, утвари, помещения, лица, ухаживающего за конями / лошадьми, действий, связанных с конем / лошадью, и т. д., подтвердило все это. Несмотря на различия в деталях, построении, языке, большинство русских сказок
«отражают историю единого народа и характер русского человека, который, несмотря на место его проживания, несет в себе историю, традиции, ценностные ориентации и своеобразие народного творчества» [13: 13].
В результате можно предположить, что концепт «конь / лошадь», исследованный на примере курских сказок, занимает важное место в языковой картине мира русского народа. Перспективы дальнейшего исследования видятся нам в сопоставительном анализе рассматриваемого концепта в различных фольклорных текстах (песнях, сказках, частушках и др.).