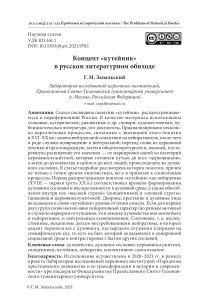Концепт "кутейник" в русском литературном обиходе
Автор: Запальский Глеб Михайлович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена понятию «кутейник», распространившемуся в пореформенной России. В качестве материала использованы толковые, исторические, диалектные и др. словари, художественная, публицистическая литература, эго-документы. Проанализировано несколько параллельных процессов, связанных с эволюцией этого понятия в XVI-XX вв.: замена нейтральной семантики на пейоративную, после чего в ряде случаев возвращение к нейтральной; переход слова из церковной лексики в простонародную, затем в общелитературную и, наконец, в устаревшую; расширение его значения - от маркировки одной из категорий церковнослужителей, которые готовили кутью, до всех «церковников», а затем до духовенства в целом и до всех людей, происходящих из духовного сословия. В статье подробно рассмотрена история понятия, причем не только с точки зрения лингвистики, но и в привязке к социальным процессам. Период распространения понятия «кутейник» как пейоратива (XVIII - первая треть XX в.) соответствовал времени формирования духовного сословия и наследственности в духовной среде, а также обособления внутри нее «высшей страты» (священников) и «низшей страты» (диаконов и церковнослужителей). Дворяне, крестьяне и духовные лица вкладывали в слово «кутейник» разные оттенки смысла. Если для первых двух групп слово носило явно пейоративный характер (по разным мотивам) и служило маркером отчуждения, то в лексике духовенства оно могло быть и пейоративом, и нейтральным самоназванием. Сословные, т. е. наследственные, механизмы делали востребованными пейоративы, в которых акцент переносился с духовного, пастырского служения клириков на специфическую еду, то есть на быт, который складывался в однородной социальной среде и контрастировал с бытом других сословий.
Духовенство, духовное сословие, церковнослужители, священники, кутейник, пейоратив, коллективное самосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/147236182
IDR: 147236182 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9783
Текст научной статьи Концепт "кутейник" в русском литературном обиходе
В классической русской литературе нередко можно встретить слово «кутейник» (и производные от него), уже вышедшее из употребления и требующее пояснений для современных читателей.
Оно относится к пейоративам — большой группе слов и словосочетаний с отрицательной коннотацией, которая может выражать насмешку, неодобрение, пренебрежение, осуждение, презрение и т. д. Существует немало лингвистических работ, посвященных пейоративам и пейоративной лексике в русском и в других языках [Грищенко, Николина], [Доля], [Коваленко], [Лескина]. В. И. Карасик разработал классификацию таких слов, в соответствии с ней «кутейника» следует отнести к специальным пейоративам (имеющим в виду конкретные свойства объекта), а внутри них — к субъективным (обозначающим людей иного круга, расовые, национальные, социальные и прочие ярлыки) [Карасик: 271–272]. Е. А. Земская в своей статье 1957 г. посвятила несколько страниц непосредственно понятию «кутейник» и проследила некоторые закономерности [Земская]. Опираясь прежде всего на толковые словари, исследовательница рассмотрела его в группе слов, поменявших значение в первой половине XIX в., и указала на изменение стилистической окраски. Из церковно-книжной лексики понятие перешло в сферу разговорной речи, став насмешливым, пренебрежительным обозначением церковников или семинаристов.
Помимо лингвистических работ для этой темы имеют значение труды по социальной истории, посвященные духовенству, и по истории понятий [Козеллек], [Леонтьева], [Мангилева]. Духовенство XVIII — начала XX в. получает всестороннее освещение в трудах Г. Фриза. Он описывает формирование особой субкультуры духовенства и в то же время обращает внимание на его значительную неоднородность, разобщенность, обособление священнослужителей от церковнослужителей, а также на критическое отношение других сословий к семинаристам [Freeze, 1977; 1983]. Л. Манчестер в своей монографии раскрывает образ жизни и мировоззрение такой специфической категории, как поповичи, а также взгляд на них со стороны [Манчестер]. Б. Н. Миронов рассматривает духовенство среди других сословий Российской империи и приходит к выводу, что сословные черты в нем развились очень глубоко. Разбирает он и взаимные отношения священника и паствы — как правило, неприязненные [Миронов]. Однако во всех этих работах концепт «кутейник», если и упоминается, то очень кратко, без попытки анализа.
Изучение множества упоминаний слова «кутейник» в литературе разных жанров, а также в толковых, исторических, диалектных и др. словарях разных эпох позволяет проследить его сложную, многоступенчатую эволюцию. Оно далеко не сразу приобрело пейоративную семантику. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» упоминается много связанных с кутьей слов, значительное их большинство приходится на тексты XVI–XVII вв.1 Существовали разные варианты приготовления кутьи из разных круп, вокруг нее образовались устойчивые традиции. «Кутейником» или «кутейщиком» называли разновидность церковнослужителя, ведающего приготовлением кутьи. Кроме того, «кутейник» — особое место в церкви, где ставят кутью (в частности, такое значение несколько раз упоминается в «Стоглаве»2), а «кутейня» — место, где ее готовят. В источниках можно встретить «кутейные блюда», «кутейные сосуды», «кутейные лошки» и пр.
Упомянутые слова носили нейтральный характер и касались достаточно узкой сферы церковного быта. Отголоском этой терминологии в ряде словарей XIX в. стало слово «кутейник» (с пометой «старинное») в значении места в храме, где ставилась кутья3.
В XVIII в. профессиональный термин «кутейник» вышел из употребления и уступил место социальному с пейоративным оттенком. Произошел перенос этого понятия с конкретной специализации церковнослужителей на всех церковнослужителей, зафиксированный в первом издании «Словаря Академии Российской» (1789–1794). Там «кутейник» появляется вместе с «кутейницей» и определяется как «всякой церковник, потому что церковники по отправлении панихиды обыкновенно первые кутью едят»4.
Упоминания «кутейников» в текстах XVIII в. адресованы именно «церковникам». Если в одном тексте встречаются и священно-, и церковнослужители, «кутейниками» называют только последних. Наиболее ранние упоминания приходятся на интермедии (интерлюдии) — небольшие шуточные пьесы первой половины столетия, которые разыгрывались между актами основного драматического действа (как правило, духовного содержания). Интермедии создавались в духовной среде — при духовных школах, в т. ч. Славяно-греко-латинской академии [Морозов: 59–62, 330, 334, 338] [Русская драматургия: 43–44, 344], [Белоусов: 165]. «Церковные» персонажи встречаются в них часто, и дьячок неизменно получает бранные прозвища, связанные с кутьей: «Прямой ты кутейник», «Тфу кутья толо-конна, плешь», «Ну кутья!», «дьячишко! могилня муха!»5. Последний эпитет показывает, что похоронная тема устойчиво сопровождала церковнослужителей, и не только в виде кутьи.
Поэт екатерининской эпохи В. П. Петров в стихотворении «К… из Лондона» высмеял подбор персоналий из «Опыта исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова (1772): «Игумен тут с клюкой, тут с мацами батырщик; / Здесь дьякон с ладаном, там пономарь с кутьей…»6. Сразу несколько категорий духовенства получают у Петрова свои «родовые знаки». Характерно, что среди них нет приходского священника, а сам поэт был сыном иерея.
Можно предположить, что перенос значения понятия «кутейник» с профессионального на социальное мог произойти в самой духовной среде. И первыми, кто стал обобщенно называть всех дьячков и пономарей «кутейниками», могли быть священники. У них связанная с кутьей терминология была в постоянном употреблении и при этом ассоциировалась с их младшими по рангу помощниками. Использование насмешливого пейоратива для обозначения всех церковнослужителей к тому же возвышало иереев в собственных глазах и сопутствовало их обособлению от низших клириков. Между этими двумя группами и так существовал разрыв, обусловленный таинством рукоположения, правом совершать таинства, разными доходами и пр. В XVIII в. он был усугублен наследственностью, семинарским образованием, политикой государства, приближавшего церковнослужителей по правовому положению к мирянам [Freeze, 1977: 20–22, 102–103]. Добавим, что в ту же эпоху в Греции наблюдалось интересное схожее явление — там распространилось аналогичное выражение «колливады» (от слова «коливо» — кутья) с негативной семантикой, и тоже в духовной среде. Так монахов — сторонников движения в защиту святоотеческого предания называли их противники [Родионов].
В XIX — начале XX в. разобщение внутри приходского духовенства только нарастало, отчасти прикрываясь общим служением и формальным этикетом. В художественной литературе продолжают встречаться примеры, когда священники называют «кутейниками» именно церковнослужителей. В рассказе писателя, происходившего из духовного звания, Ф. М. Решетникова «Никола Знаменский» (1867) священник сообщает:
«Из Березова в Подгорск поехали со мной один кутейник, востроглазый такой парень, да еще какой-то поп. <…> Кутейник позвал меня к себе, ну, я и поехал, а у него в горнице пятеро кутейников было, да один дьякон какой-то»7.
Параллельно слово «кутейник» проникло в крестьянскую среду. В словарях конца XVIII — первой половины XIX в. (начиная со «Словаря Академии Российской») оно сопровождается пометой «простонародное» или «народное»8. Понятие отразилось во многих народных пословицах и легендах, зафиксированных в XIX в. В сборнике «Пословицы русского народа» В. И. Даля приводятся следующие:
«Вари кутью, а кутейники сами придут», «Была бы кутья, а кутейники сами придут», «Где чует кутью, туда идет», «Кутейники (поповичи) дергачи, если с медом калачи», «Кутейники дергоноги: не нашли пути дороги», «Кутейники беспрозванцы»9.
В Словарь русских народных говоров попали употреблявшиеся во многих губерниях слова «кутейник», «кутерм и н» (дьячок, пономарь), «кутехлёб», «кутьехлёб», «кутёс» (лицо духовного звания). Для всего духовенства были применимы собирательные выражения «кутьё», «кутья», «кутья прокислая», «кутья кисла на ниточке повисла», «кутья несоленая»10.
Н. А. Некрасов в своих поэмах передает крестьянский язык и понятия. В «Коробейниках» (1861) баба обрушивается на пришедших в село торговцев-коробейников:
«А потом и коробейников
Поругала баба всласть:
“Принесло же вас, мошейников!
Вот уж подлинно напасть!
Вишь вы жадны, как кутейники, Из села бы вас колом!..”»11.
В «Кому на Руси жить хорошо» (1863–1877) есть еще один пример:
«Однако делать нечего,
По времени приладились
И к новому писцу.
Тот ни строки без трешника,
Ни слова без семишника, Прожженный, из кутейников — Ему и Бог велел!»12.
С. П. Подъячев, сам происходивший из крестьян, в очерке «По этапу» (1903) передает беседы арестантов-крестьян. Они спрашивают у старика, который говорит о Боге:
«Кто?.. Звание твое?.. Мужик, мещанин? Кутейник?.. <…> Что он, из духовных, что ли?»13.
Из многочисленных примеров можно заключить, что в крестьянской среде развивалось пейоративное значение термина, который стал одним из маркеров отчуждения крестьян от духовенства. Причем от духовенства в целом, так как «кутейниками» в народе стали звать и дьячков, и дьяконов, и попов, и поповичей, не вдаваясь в подробности. То есть в XIX в. произошло расширение значения понятия.
Для крестьян, очевидно, указание на кутью и другие блюда символизировало жадность духовенства, обжорство, страсть к наживе, обогащению за счет народа, в том числе за счет народной беды. На последнее понимание указывают народные поговорки:
«Один хлеб попу, одна радость — что свадьба, что похороны», «Кому мертвец, а нам товарец», «Поп хочет большого прихода, а сам ждет не дождется, когда кто помрет»14.
В случае с похоронами традиционно адресуемое священникам обвинение в поборах принимало наиболее острые формы. Кутья, которую обычные люди ставили на стол по редким печальным, и при этом ритуальным, поводам, для духовных, включая иереев, была рядовым, повседневным блюдом. Не исключено, что в этом виделась профанация сакральной трапезы, а на священников падали не только нравственные, но и религиозные обвинения. По крайней мере часть народных пословиц связывают иереев с нечистой силой:
«Не тому Богу попы наши молятся», «При церквах проживают, а волю дьявольску совершают», «Сто и т ад попами, дьяками да неправедными судьями»15.
Постепенно ассоциировать духовенство с кутьей стали и дворяне. Один из первых известных случаев — пьеса «Недоросль» (1781) Д. И. Фонвизина. Среди ее героев встречается простодушный дьячок Кутейкин. Не доучившись в семинарии, он подал «в консисторию челобитье, в котором прописал: “Такой-то де семинарист, из церковничьих детей, убояся бездны премудрости, просит от нея об увольнении”. На что и милостивая резолюция вскоре воспоследовала, с отметкою: “Такого-то де семинариста от всякаго учения уволить: писано бо есть, не мечите бисера пред свиниями, да не попрут его ногами”»16.
Особенно часто в произведениях дворян эпитет «кутейник» встречается с середины XIX в. Благодаря начавшейся с этого времени волне упоминаний в художественных, публицистических произведениях, мемуарах и письмах понятие из простонародной лексики перешло в общелитературную. Характерно, что в «Словаре церковно-славянского и русского языка», составленном II отделением Императорской Академии наук (1847), слово «кутейник» впервые приводится без пометы «народное» или «простонародное», что подтверждает проникновение слова в более широкий языковой горизонт17.
П. И. Мельников-Печерский через слово «кутейник» демонстрирует чувство сословного превосходства старого дворянства над духовенством. В рассказе «Старые годы» (1857), где действие периодически переносится в XVIII в., князь Алексей Юрьич Заборовский называет так архимандрита, предельно эмоционально реагируя на его увещевания:
«Хоть ты и архимандрит, а выходишь дурак, да и тот дурак, кто тебя, болвана, архимандритом сделал!.. <…> Ты, кутейник, ты не можешь понять, что такое значит шляхетская честь!.. Да еще не просто шляхетская, а княжеская… Мы Гедеминово рожденье!.. Этого в пустую башку твою не влезет, хоть ты и в Киеве обучался!.. Все вы едино — одна жеребячья порода!.. Не понять вам чести дворянской!.. Смерды вы, в подлости рождены, в подлости и помрете, хоть патриархами сделай вас!..»18.
В «Бабушкиных россказнях» (1858) того же автора застрявшая в прошлом героиня сетует:
«Нынче барин из знатного, родословного рода с мещанином аль с кутейником на одной ноге себя ставит — он, дескать, ученый. Да коли он ученый, так ученость его пущай при нем и остается, никто у него ее не отнимет, — да в дворянский-то круг ему подло-рожденному зачем лезть?.. Место, что ли, ему там?»19.
Как и у крестьян, в языке дворян в XIX в. значение слова распространяется на все духовенство и на людей, связанных с ним происхождением. С. Т. Аксаков в своих воспоминаниях (1856) свидетельствует, что мать «терпеть не могла семинаристов, в чем совершенно соглашался с нею мой отец, который называл их кутейниками»20. В романе А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» (1863) дворянин Бакланов, прощаясь с чиновником Проскриптским, обменивается с ним колкостями. Первый говорит себе под нос: «Кутейник!», а второй шепчет: «Барченок!»21.
Иногда значение понятия расширялось еще больше, затрагивая социальные группы, «сочувствующие» духовенству. А. И. Герцен в письмах 1856 г. с раздражением отзывается о журнале славянофильского направления «Русские беседы» и, в частности, о статье Т. И. Филиппова, происходившего из мещан и с духовенством не связанного:
«…я боюсь лая кутейников и подлецов — они не камнями сражаются, а навозом <…>. Говорю это потому, что прочитал в “Русских беседах” их семинарские намеки»22.
Аналогичное расширение, пусть и в шутливой форме, встречаем в «Пестрых письмах» (1884–1886) М. Е. Салтыкова-Щедрина. Герой поступил чиновником особых поручений к важному лицу и «чуть было опять не сделался западником, потому что важное лицо не любило славянофилов и называло их кутейниками»23.
Некоторые авторы открыто выступали против предрассудков по отношению к духовенству или показывали, как их герои-дворяне сдерживаются, чтобы не употребить обидное выражение. Здесь будет уместна цитата из «Войны и мира» (1863–1869) Л. Н. Толстого:
«То обстоятельство, что Сперанский был сын священника, которого можно было глупым людям, как это и делали многие, пόшло презирать в качестве кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться с своим чувством к Сперанскому, и бессознательно усиливать его в самом себе»24.
В рассказе И. Г. Прыжова «Он и она» (1865) богатая вдова признается герою:
«Мне не нравится ваш приятель <…> Молодость ли его виновата в этом или общество, где вырос он (она хотела сказать: кутейник!), но только все его манеры и привычки ужасно грубы… Вы знаете, я люблю свободу обращения, но вольность его доходит до неприличия»25.
С другой стороны, эти примеры свидетельствуют о силе предубеждений, раз уж борьба с ними требовала специального описания.
Итак, для дворян, как и для крестьян, использование слова «кутейник» было признаком отчуждения от духовенства. Но в данном случае кутья символизировала не жадность или обжорство, а грубую пищу и связанные с ней грубые нравы, невоспитанность, отсутствие светских манер, бедность, низкое образование, «подлое» происхождение, противопоставленное благородному родословию дворян. Ряд продуктов, ассоциируемых с клириками, может быть продолжен. Скажем, И. С. Тургенев в одном разговоре критически высказался о публицистах из семинарской среды:
«Им завидно, что их вырастили на постном масле, и вот они с нахальством хотят стереть с лица земли поэзию, изящные искусства, все эстетические наслаждения и водворить свои семинарские грубые принципы»26.
Очень характерно, что аристократы и на деле предпочитали не делить трапезу с иереями. П. П. Семенов-Тян-Шанский вспоминал, что лишь «очень немногие из помещиков обходились ласково со священниками и во время чаепитий и завтраков сажали их за один стол с собою. Остальные отсылали попов за особый стол, угощая их простым вином и простыми закусками»27.
Во второй половине XIX — начале XX в., на которые приходится значительное большинство литературных упоминаний «кутейников», можно говорить об обострении конфликта двух сословий. И оно было обусловлено не только сословной замкнутостью, наследственностью, разным образованием и бытом. Как раз в 1860-х гг. в результате Великих реформ дети священников получили право покидать свое сословие, и с этого времени в России начала складываться альтернативная интеллигенция духовного происхождения. Она сразу вступила в конкуренцию с дворянской интеллигенцией за лидерство в обществе. Во многом потому дворяне, ранее относившиеся к духовенству высокомерно, стали остро реагировать, и чаще не на священников, а на поповичей как на своих соперников, которые шли на государственную службу, в сферу образования, в литературу, стремясь пересоздать окружающий несправедливый мир [Манчестер: 11–12, 14–16, 46–47, 70–72, 87–91].
Под влиянием расширения понятия «кутейники» в XIX — начале XX в. оказались и сами священники. Мы видели, что они в тот период по-прежнему могли называть так церковнослужителей. Одновременно иереи и представители их семей стали применять этот эпитет и к себе. Порой это было связано с неприязнью к своему происхождению, стыдом за него. Бывший архимандрит Феодор (Бухарев) в автобиографии подчеркивает, что в нем, «природном кутейнике, внимательный наблюдатель всегда находил меньше известного духа кутеизма, чем и в таком его товарище, который в духовное звание и образование привзошел отвне»28. Таким образом, этот известный богослов изобретает наукообразный термин «кутеизм», явно наделяя его отрицательным значением. Характерно, что на момент создания текста автор снял с себя священный сан и монашество.
Применение самоназвания «кутейник» могло выглядеть и как иллюстрация отношения к духовенству со стороны других сословий, за которой прослеживалась обида на несправедливое принижение. Образцы таких высказываний дает герой Н. С. Лескова отец Савелий Туберозов. В «Божедо-мах» (1868) он обращается к жене городничего:
«— Но что ж, мой друг… Скажи ты мне… Я все же ведь кутейник, груб, а ты, как женщина, ты это лучше понимаешь: что ж их всех этих женщин тянет к этим шаболдаям?»29.
В итоговой версии романа-хроники «Соборяне» (1872) отец Савелий вопрошает воображаемого писателя:
«Известно ли тебе, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна бедствиями и приключениями, или не думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недоступны благородные страсти и что оно не ощущает страданий?»30.
Иногда слово «кутейники» использовалось и как уже усвоенное и не вызывающее обиды самоназвание. Н. А. Добролюбов в письме к отцу-священнику из института в 1853 г. упоминает, что один из его товарищей-студентов тоже «из кутейников»31. В подобных примерах эпитет уже не содержит пейоративной семантики. Косвенно это указывает на его укорененность в языке, привычность.
Многое изменилось после революции. В 1930-х гг. пейоратив «кутейники» уже воспринимался как устаревший, именно с такой пометой он вошел в «Толковый словарь русского языка» (1935–1940) Д. Н. Ушакова32. Но все же это слово продолжало использоваться в первые десятилетия после 1917 г. Во-первых, в семьях священников его могли применять в воспоминаниях о дореволюционном прошлом. Во-вторых, как ни парадоксально, но советская власть, сразу после революции официально упразднив сословия, отчасти способствовала сохранению сословности до 1930-х гг. Это касалось и людей с одобряемым пролетарским происхождением, и «лишенцев». Введение категории «лишенцев», к которым относились, в частности,
«духовные служители церквей и религиозных культов», не только ограничивало их права, но и помогало им сохранить сословную самоидентификацию. Им просто не давали забыть о собственных корнях. Актер, сын священника Е. А. Лебедев вспоминал: «Нам, кутейникам, учиться можно было только до четвертого класса». Другие мальчики били его и его брата палками по голове и дразнили их: «Эй ты, поп, попенок, кутейник!»33.
Итак, понятие «кутейник» проделало за несколько столетий впечатляющую эволюцию, в которой можно выделить несколько параллельных процессов: замена нейтральной семантики слова на пейоративную, после чего в ряде случаев возвращение к нейтральной; его переход из церковной лексики в простонародную, затем в общелитературную и, наконец, в устаревшую; одновременное расширение его значения — от маркировки одной из категорий «церковников» до всех церковнослужителей, а затем до духовенства в целом и до всех людей, происходящих из духовного сословия. При этом чем шире применялось понятие, тем условней оно становилось, отрываясь от конкретного блюда и становясь метафорой.
Многочисленные случаи употребления показывают, что дворяне, крестьяне и духовные лица вкладывали в понятие «кутейник» разные оттенки смысла. Если для первых двух групп слово носило явно пейоративный характер (по разным мотивам) и служило маркером отчуждения, то в лексике духовенства оно могло быть и пейоративом, и нейтральным самоназванием.
Период распространения понятия «кутейник» как пейоратива (XVIII — первая треть XX в.) не случайно соответствует времени формирования духовного сословия и наследственности в духовной среде, а также обособления внутри нее «высшей страты» (священников) и «низшей страты» (диаконов и церковнослужителей) с отдельной наследственностью в каждой из групп. Эти процессы сопровождались складыванием особого сословного самосознания в священнических и церковнослужительских семьях. После революции механизм передачи приходов по наследству разрушился, но вынужденному сохранению самоидентификации со своим происхождением способствовало существование до 1930-х гг. категории «лишенцев», в которую, в частности, попали священники и их семьи.
Можно предположить, что сословные, т. е. наследственные, механизмы делали востребованными пейоративы, в которых акцент переносился с духовного, пастырского служения клириков на специфическую еду, то есть на быт, который складывался в однородной социальной среде, куда почти не проникали чужаки, и контрастировал с бытом других сословий. Сын священника и воспитанник духовной школы И. И. Введенский отмечал в 1830-х гг.: «Нигде, мне кажется, духовенство так резко не отличается от мирян, как в России. У нас каждое из <…> сословий имеет собственные свои приемы, свои обычаи, даже свою собственную нравственность»34.
В качестве параллелей стоит обратиться к пейоративным или экспрессивным этнонимам, многие из которых тоже связаны с традиционной едой. Французов в разных языках, в том числе в русском, называют поедателями лягушек, итальянцев — макарон, немцев — колбасы и т. д. Можно сказать, что необычные пищевые предпочтения другого народа нередко становятся метафорой глубоких культурных, поведенческих различий. Пейоративность здесь помогает фиксировать отношения «свой / чужой»: устойчивый термин для «чужих» отделяет от них свой народ, участвует в формировании собственного самосознания [Грищенко, Николина], [Доля: 215–218].
Популярность адресованного духовенству «гастрономического» пейоратива может косвенно указывать на глубокие, передаваемые из поколения в поколение культурные различия, сложившиеся в Российской империи между духовным чином и другими сословиями, а также внутри духовенства как общества в миниатюре с большой дистанцией между иереями и причетниками.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРE / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Список литературы Концепт "кутейник" в русском литературном обиходе
- Белоусов А. Ф. Образ семинариста в русской культуре и его литературная история: от комических интермедий XVIII века — до романа Надежды Хвощинской «Баритон» // Традиция в фольклоре и литературе. СПб., 2000. С. 159-176.
- Грищенко А. И., Николина Н. А. Экспрессивные этнонимы как приметы языка вражды // Язык вражды и язык согласия в социокультурном контексте современности. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2006. С. 175-187.
- Доля А. Б. Этнические прозвища в английском и русском языках: мотивационный аспект // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2016. Т. 1. № 1. С. 214-224.
- Земская Е. А. Из истории русской литературной лексики XIX века // Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. 4. С. 49-52.
- Карасик В. И. Язык социального статуса. М.: Институт языкознания АН СССР, Волгоград. пед. институт, 1991. 495 с.
- Коваленко Е. В. Языковая актуализация пейоративной оценки: на материале английского языка. Новосибирск: НВИ войск нац. гвардии, 2017. 121 с.
- Козеллек Р. Введение // Словарь основных исторических понятий: избранные статьи: в 2 т. М.: Новое литературное обозрение, 2014. Т. 1. С. 23-44.
- Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс. Православное сельское духовенство России во второй половине XIX — начале XX в. М.: Новый хронограф, 2002. 253 с.
- Лескина С. В. Русские и английские фразеологизмы пейоративной семантики как отражение языковой картины мира. Челябинск: Атоксо, 2009. 148 с.
- Мангилева А. В. Социокультурный облик приходского духовенства Пермской губернии в XIX — начале ХХ в. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 480 с.
- Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России / пер. с англ. А. Ю. Полунова. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 448 с.
- Миронов Б. Н. Российская империя. От традиции к модерну: в 3 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. Т. 1. 896 с.
- Морозов П. О. История русского театра до половины XVIII столетия. СПб.: Тип. В. Демакова, 1889. 438 с.
- Родионов О. А. Колливады // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2014. Т. 36. С. 323-335.
- Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. М.: Наука, 1972. 376 с.
- Freeze G. The Russian levites. Parish Clergy in the Eighteenth Century. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977. 325 p.
- Freeze G. The Parish clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983. 507 p.