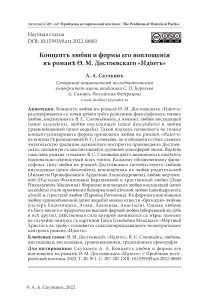Концепт любви и формы его воплощения в роман М. Достоевскаго «Идиот»
Автор: Скулкин Артм Андреевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Концептъ любви въ романѣ Ѳ. М. Достоевскаго «Идіотъ» разсматривается съ точки зрѣнія трёхъ религіозно-философскихъ типовъ любви, выдѣленныхъ В. С. Соловьёвымъ, а именно: любви восходящей (amor ascendens), любви нисходящей (amor descendens) и любви уравновѣшенной (amor aequalis). Такой подходъ позволяетъ не только концептуализировать формы проявленія любви въ романѣ «Идіотъ» въ контекстѣ размышленій В. С. Соловьёва, но и обозначить тѣмъ самымъ читательскую традицію адекватнаго воспріятія произведенія Достоевскаго, связанную съ мыслительной и духовной атмосферой эпохи. Видѣніе смысловъ романа «глазами» В. С. Соловьёва даётъ возможность намѣтить національно-цѣнностный кодъ чтенія. Каждому обозначенному философомъ типу любви въ романѣ Достоевскаго соотвѣтствуетъ любовь нисходящая (amor descendens), воплощённая въ любви родительской (Лизаветы Прокофьевны и Ардаліона Александровича), любви жертвенной (Настасьи Филипповны Барашковой) и христіанской любви (Льва Николаевича Мышкина). Формами воплощенія любви восходящей (amor ascendens) стали проявленія безкорыстной дѣтской любви (швейцарскихъ дѣтей) и страстной любви (Парѳёна Рогожина). Къ формамъ воплощенія любви уравновѣшенной (amor aequalis) можно отнести «братскую» любовь (сестёръ Епанчиныхъ, Аглаи, Аделаиды, Анастасіи). Однако любовь къ Богу является іерархически высшей формой любви (вбирающей въ себя и всѣ другія), дѣйственная сила которой начинается съ вѣры: поэтому не случайно эпизодъ съ картиной Ганса Гольбейна Младшаго «Мёртвый Христосъ въ гробу» становится смыслопорождающимъ теоантропнымъ центромъ романа «Идіотъ».
Ѳ. м. достоевскiй, идiотъ, в. с. соловьёвъ, любовь, нисходящая, восходящая, уравновешенная, традицiонная орѳографiя
Короткий адрес: https://sciup.org/147236194
IDR: 147236194 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10603
Текст научной статьи Концепт любви и формы его воплощения в роман М. Достоевскаго «Идиот»
Въ 2000 г. В. А. Свительскiй выступилъ съ рѣзко критической статьёй «“Сбились мы. Что делать нам! ‥ ”: к сегодняшним прочтениям романа “Идиот”», призывающей пишущихъ о произведеніи Ѳ. М. Достоевскаго къ научному благоразумію: «Надо бы нам разобраться в сумбуре мнений, возникших вокруг этой “самой одухотворенной” из книг писателя» [Сви-тельский: 228]. Въ 2018 г. В. В. Борисова въ статьѣ «Роман Ф. М. Достоевского “Идиот”: история и типология понимания» настроила научное сообщество на миролюбивый ладъ: «Этой интерпретационной свободой каждый исследователь, каждый комментатор, как показывает практика, распоряжается по-своему» [Борисова: 199]. Другими словами, въ современной достоевистикѣ каждый занимается своимъ дѣломъ. И призывы учёныхъ отказаться отъ примѣненія подходовъ, неадек-ватныхъ содержанію произведеній Достоевскаго [Кибальник], навѣрное, нескоро будутъ услышаны. Болѣе продуктивнымъ представляется предложеніе И. А. Есаулова, реализованное имъ же самимъ въ коллективной монографіи «Анализ, интерпретации и понимание в изучении наследия Достоевского» (2021), — приглашеніе разобраться въ сущности этихъ подходовъ, опредѣлить ихъ историческія и эвристическія возможности и предѣлы, — и тогда, по мысли учёнаго, всё встанетъ (и всѣ встанутъ) на свои мѣста [Есаулов, 2021а].
Однако, несмотря на незатихающiй «рецептивный конфликт» [Борисова: 194], въ достоевистикѣ обозначилась ощутимая тенденція современнаго изученія романа Достоевска-го «Идіотъ»: замѣтенъ повышенный интересъ къ аксіологической проблематикѣ романа, къ культурно-историческимъ и къ глу-бокимъ религіознымъ и философскимъ контекстамъ его пониманія ([Евлампиев], [Есаулов, 2021b], [Исупов], [Касаткина, 2020, 2021а, 2021b], [Соина, Сабиров]).
Предлагаемая статья выполнена какъ разъ въ руслѣ аксіо-логическаго литературовѣдѣнія и посвящена разсмотрѣнію концепта любви [Орвин] и формъ его проявленія въ романѣ Ѳёдора Михайловича Достоевскаго «Идіотъ» (1868).
Въ качествѣ непосредственнаго художественнаго текста, ставшаго предметомъ изученія въ данной работѣ, было взято каноническое переизданіе романа1, выполненное въ авторской орѳографіи и пунктуаціи подъ редакціей В. Н. Захарова. Какъ и текстъ произведенiя, представленный въ его изначальномъ видѣ, статья выполнена въ соответствiи съ правилами традицiонной русской орѳографіи: о нацiональномъ писателѣ XIX вѣка слѣдуетъ писать въ наиболѣе адекватной ему графической формѣ, сохранившей вѣковую связь не только съ первой славянской письменностью эпохи Кирилла и Меѳодiя, но и съ духовными традицiями, получившими въ ней своё зримое воплощенiе. Попытка графическаго оформленiя изслѣдовательской мысли въ буквахъ традицiонной орѳографіи осознается какъ маленькiй шагъ по преодолѣнiю духовнаго «безпутья», о которомъ въ своё время писалъ Г. В. Флоровскiй [Флоровский].
Какъ справедливо утверждаетъ И. А. Есауловъ, въ эпоху «засилья мозаичной эклектики и терминологической разноголосицы в современной филологии» [Есаулов, 2021а: 7] изслѣдователю, стремящемуся къ адекватному постиженію художественныхъ произведеній, необходимо преодолѣть «etic-подход»: «Творчество Достоевского при etic-подходе, будь он марксистский, структуралистский или фрейдистский, является лишь иллюстрацией действия более общих “закономерностей” (излюбленное слово для представителей “объяснительного” etic-подхода)» [Есаулов, 2021а: 25]. Наиболѣе продуктивнымъ, указываетъ учёный, является «emic-подход» «При emic-подходе делается попытка рассмотреть явления и их взаимосвязь (структуру) глазами людей, которые относятся к данной культуре» [Есаулов, 2021a: 25].
Въ данной статьѣ концептъ любви, воплощённый въ романѣ Ѳ. М. Достоевскаго «Идіотъ», разсматривается съ точки зрѣнія трёхъ религіоз но-философскихъ типовъ любви, выдѣленныхъ
-
В. С. Соловьёвымъ въ работахъ «Смыслъ любви»2 и «Любовь»3, а именно: любви восходящей (amor ascendens), любви нисходящей (amor descendens) и любви уравновѣшенной (amor aequalis) ( Соловьёвъ , т. 10: 236). Въ наиболѣе общемъ выраженіи любовь, по В. С. Соловьёву, есть «влеченіе одушевленнаго существа къ другому для соединенія съ нимъ и взаимнаго восполненія жизни» ( Соловьёвъ , т. 10: 236).
Такой типологическій подходъ позволяетъ не только концептуализировать формы проявленія любви въ романѣ «Идіотъ» въ контекстѣ размышленій В. С. Соловьёва, но и обозначить тѣмъ самымъ читательскую традицію адекватнаго воспріятія произведенія Достоевскаго, связанную съ мыслительной и духовной атмосферой эпохи. Романъ, какъ и статья были написаны въ условіяхъ одной культурной парадигмы послѣдняго пятидесятилѣтія существованія Россійской Имперіи, а значитъ являются хранителями единой духовной традиціи того общества, въ которомъ они были созданы.
Естественно, предложенная В. С. Соловьёвымъ классификація любви «не покрываетъ» всего многообразія формъ любви, запечатлѣнныхъ въ романѣ, но не нарушаетъ логики культуры и болѣе того предлагаетъ одинъ изъ возможныхъ про-блемно-тематическихъ ключей прочтенія. Видѣніе смысловъ романа Достоевскаго «глазами» В. С. Соловьёва даётъ возможность намѣтить и національно-цѣнностный кодъ чтенія русской классики.
Любовь нисходящая (amor descendens)
Родительская любовь. Подъ понятіемъ любви нисходящей, любви, которая болѣе даётъ, нежели получаетъ, В. С. Соловьёвъ понимаетъ любовь родительскую. Ту, которая направлена отъ любящихъ родительскихъ сердецъ къ требующимъ заботы и вниманія дѣтямъ. Родительскую любовь зачастую принято называть материнской, такъ какъ именно въ заботѣ матери о дѣтяхъ ея чувства выражаются наиболѣе полнымъ и харак-тернымъ образомъ.
Въ романѣ представлены двѣ семьи (Епанчиныхъ, Птицы-ныхъ), въ которыхъ проявленіе родительской любви специфично выражено. Въ первую очередь — это семейство Епанчиныхъ, гдѣ носительницей любящаго родительскаго сердца является Лизавета Прокофьевна, женщина взбалмошная и довольно вспыльчивая, но по-своему добрая и заботливая. И хотя ге-нералъ Епанчинъ въ равной степени является такимъ же представителемъ старшаго поколѣнія семьи, какъ и его жена, но всё же именно она со своимъ неоднороднымъ и весьма перемѣнчивымъ характеромъ воплощает родительскую лю-бовъ въ ея индивидуально-земномъ своеобразiи.
Несмотря на внѣшнюю агрессівность, выраженную въ мно-гочисленныхъ замѣчаніяхъ и упрёкахъ по отношенію къ сво-имъ дѣтямъ, Елизавета Прокофьевна, какъ человѣкъ любящій и имѣющій склонность къ сопереживанію, находится въ по-стоянномъ состояніи безпокойства за судьбу любимыхъ дочерей. Такъ, въ преддверіи наступающей женитьбы Аглаи мать «сбивается съ толку»:
«…конечно, и Лизавета Прокофьевна раньше всѣхъ все предвидѣла и узнала, и давно уже у ней “болѣло сердце”, но — давно ли, нѣтъ ли, — теперь мысль о князѣ вдругъ стала ей слишкомъ не по-нутру, собственно потому что сбивала её съ толку» (520).
Лизавета Прокофьевна хотѣла бы избавиться отъ навязчивыхъ мыслей о князѣ и предстоящей свадьбы дочери, но на уровнѣ подсознательномъ не можетъ себѣ позволить перестать думать о судьбѣ родного чада.
Семья Птицыныхъ — это уже совершенно иная по своему складу и внутреннему состоянію семья. Птицыны как семья, въ отличіе отъ Епанчиныхъ, гораздо менѣе сплочённые и гармоничные. Виной тому въ первую очередь является отецъ семейства генералъ Иволгинъ, котораго можно въ опредѣлённомъ смыслѣ противопоставить строгой и сдержанной въ своей любви Лизаветѣ Петровнѣ.
Именно на характеръ Ардаліона Александровича стоитъ обратить вниманіе. Внутренній надломъ генерала съ каждымъ годомъ сказывался всё больше на его отношеніяхъ съ близкими, однако при всёмъ непостоянствѣ своего характера онъ всегда (порой неожиданно для самого себя) оставался вѣренъ своей семьѣ, горячо любя её:
«Онъ вдругъ вспоминалъ, что онъ “отецъ семейства”, мирился съ женой, плакалъ искренно» (494).
Пережитое потрясеніе, оставленное авторомъ за повѣ-ствовательными рамками произведенія, кардинально повлияло на жизнь генерала Иволгина. Къ моменту дѣйствія романа генералъ предстаётъ человѣкомъ слабымъ духомъ, чьи лучшіе годы отражались лишь въ полуправдивыхъ исторіяхъ, которыя Ардаліонъ Александровичъ находитъ необходимымъ разсказать каждому встрѣчному собесѣднику. Однако именно въ противорѣчивой сущности генерала скрывается секретъ его глубокаго чувства любви къ близкимъ. Не отдавая отчётъ своимъ поступкамъ, генералъ также яро требуетъ уваженія отъ своихъ близкихъ, какъ и впослѣдствіи упрекаетъ себя за совершённые неблаговидные поступки. Этотъ человѣкъ не знаетъ предѣла въ зависимости не только алкогольной или азартной, но и въ сердечной, уже относящейся къ семьѣ. Иными словами, генералъ любитъ своихъ родныхъ такъ же горячо, какъ и совершаетъ любое другое дѣйствіе, мотивируемое страстнымъ душевнымъ порывомъ.
Его любовь, въ отличіе отъ любви Лизаветы Прокофьевны, непосредственна и открыта, является столь же ранимой, сколько и сильной. Можно предположить, что именно эта необузданность въ страстяхъ и стала причиной неожиданной смерти генерала. Столкновеніе чувства гордости съ ещё болѣе сильнымъ чувствомъ любви, безъ которой генералъ Иволгинъ не могъ жить, опредѣлило печальный исходъ его жизни.
Жертвенная любовь. По своей природѣ любовь жертвенная въ равной степени, какъ и любовь родительская, является формой воплощенія любви нисходящей. Въ опредѣлённой степени справедливымъ будетъ замѣчаніе, что жертвенная любовь имѣетъ гораздо большее право считаться именно нисходящей, или отдающей, чѣмъ материнская. Родительскую любовь можно объяснить естественными природными инстинктами и чувствомъ материнской и отцовской привязанности. Любовь же жертвенная цѣликомъ и полностью есть любовь осознанная, требующая волевого рѣшенія, переступа-нiя черезъ себя.
Въ романѣ героиней, въ характере которой содержатся свойства жертвенной любви, является Настасья Филипповна Барашкова: она скорѣе сама по себѣ есть воплощеніе жертвенной любви и жертвы.
Съ одной стороны, она испытываетъ чувство мистико-романтическаго влеченія къ князю Мышкину. С другой — именно въ тотъ моментъ, когда князь со свойственной ему пророческой прозорливостью обнаруживаетъ всю неподдѣль-ную красоту и чистоту внутренняго міра Барашковой, она, несмотря на своё свѣтлое и радостное чувство, безпощадно подавляетъ его, скрывая за маской искусственнаго лицемѣрія и наигранной капризности, пребывая, какъ представляется князю Мышкину, въ убѣжденiи:
«Эта несчастная женщина глубоко убѣждена, что она самое павшее, самое порочное существо изъ всѣхъ на свѣтѣ» (447).
Жертвенная же любовь Настасьи Филипповны находитъ гораздо болѣе широкій просторъ для воплощенія въ романѣ. Происходитъ это въ первую очередь потому, что этой любви Настасья Филипповна не противится, это та самая любовь, на которую она, отдавая отчётъ самой себѣ, согласилась однажды и была вѣрна своему «призванiю» до самого печаль-наго конца, какъ бы предвкушая себя въ качествѣ жертвы. Объ этомъ Рогожинъ говоритъ Мышкину:
«Да потому-то и идетъ за меня, что навѣрно за мной ножъ ожи-даетъ!» (222).
Бѣгство отъ любви къ князю стало прямымъ результатомъ логически принятаго рѣшенія о недостойности ея нравствен-наго облика: она не могла быть «такой» вмѣстѣ съ Мышки-нымъ, предстать «поруганной» передъ его по-христіански чистой душой. Губительными отношеніями съ Рогожинымъ она не столько пыталась себя отвлечь отъ безплодной и невозможной, по ея мнѣнію, любви ко Льву Николаевичу, сколько наказывала саму себя:
«Я (Настасья Филипповна. — А. С. ), говоритъ, пойду за тебя, Парѳенъ Семеновичъ, и не потому что боюсь тебя, а все равно погибать-то. Гдѣ вѣдь и лучше-то?» (219).
Однако готовность на жертву (жертвенность) Настасьи Филлиповны выводитъ насъ къ центральной проблемѣ романа, которую В. Н. Захаровъ обозначилъ вопросомъ: «Воскрес ли мертвый Христос?» [Захаров]. Отвѣчая на вопросъ сомнѣнiя, учёный пишетъ о православномъ содержанiи романа, о «богословии тридневия», нашедшемъ въ нёмъ своё образное воплощенiе: «Роман Достоевского — роман Великой субботы, когда Бог умер, человек осиротел, человечество осталось наедине с собой, и никто еще ничего не слышал о сошествии Христа в ад и проповеди в аду» [Захаров: 297].
Святитель Филаретъ (Дроздовъ) въ связи съ событіемъ «тридневія» — смертью Христа, сошествіемъ во адъ и вос-кресеніемъ — напоминаетъ намъ въ «Слове в день Пасхи» (1845): «Воскресение и восхождение Христово началось не от гроба только, но и от ада»4.
Но важно обратить вниманiе не только на проблему испытуемой вѣры, заявленнную въ романѣ «Идiотъ», но и на сотерiологическiй аспектъ Воскресенiя, который также акту-ализированъ въ произведенiи Достоевскаго. Нужно помнить, что воскресенiе Христа начинается со спасенiя человѣка, съ «со-воскресенiя», когда Господь «захватомъ запястья», какъ изображено на православныхъ иконах Воскресенiя, спасаетъ изъ преисподней Адама и вслѣдъ за нимъ и другихъ героевъ библейской исторiи, «насельников ада» [Иванова]. Послѣ событiя воскресенiя путь въ Царство Небесное, путь къ воскресенiю изъ мёртвыхъ становится открытымъ для «всякой плоти», какъ объ этомъ говорится въ Дѣянiяхъ свя-тыхъ апостоловъ: «И плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставиш ь души моей в аде» (Деян. 2:26–27).
Не только таинство Воскресенiя и связанное съ нимъ со-мнѣнiе въ возможности воскресенiя «мёртваго», но и сотерiо-логiя, надежда на спасенiе человѣка волновали Достоевскаго въ романѣ.
Поддерживая мысль В. Н. Захарова о сотерiологическомъ содержанiи романа, Т. А. Касаткина доказательно показываетъ, имѣя въ виду и «исходъ» Настасьи Филипповны, что роман «Идiотъ» — это «роман о воскресении» [Касаткина, 2021b: 18]: «О романе “Идиот” часто говорят, что он мрачный и тяжелый, что там все погибают без воскресения, начиная с гольбейнов-ского Христа. Но как минимум одно воскресение там представлено с очевидностью и происходит на глазах читателя. И это предстоящее воскресение нам предсказано буквально в первых строках романа, поскольку оно заключено в имени героини “Настасья”, “Анастасия”: ἀνάστασις (греч.) — для христиан наиболее очевидно значит “воскресение”; однако исходные значения слова — “изгнание”, “переселение” (и Настасья Филипповна — существо, изгоняемое с этой земли, вытесняемое из этого мира грехом другого, преступлением против нее); а еще и — “вставание с места”, “отшествие”, что особенно наглядно реализуется в последней сцене» [Касаткина, 2021b: 19].
Такимъ образомъ, жертвенная любовь какъ проявленіе любви нисходящей, въ какихъ бы формахъ въ романѣ «Иді-отъ» она ни запечатлѣвалась, сопряжена съ любовью Христа, съ тѣмъ путёмъ, которымъ Онъ идётъ, — нисхожденія и восхожденія.
Христiанская любовь князя Мышкина. Сама суть ученія Христа и Его подвигъ лежатъ въ основѣ формированiя тео-антропнаго чувства. Оно выражено въ любви къ Богу, который заповѣдовалъ любить и ближняго своего: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34).
Евангельская любовь въ романѣ, как неоднократно было доказано, воплощена въ безразборчивой любви князя ко всѣмъ на его пути встрѣчнымъ людямъ: «Князь Мышкин следует Христовым заповедям. Он любит ближнего, сострадает страждущему, прощает виноватого, простодушен, говорит то, что думает, дает исчерпывающие ответы на вопросы, которые ему задают, откровенен с каждым собеседником. На зло не отвечает злом. Кротко сносит пощечину Гани. Милосерден. Не отказывает просящему. Не горд, скромен, бескорыстен, помогает прегрешившему. Ему по силам исполнение одной из самых трудных заповедей: “…любите враговъ вашихъ, благословляйте клянущихъ васъ, благотворите ненавидя-щимъ васъ, и молитесь за обижающихъ и гонящихъ васъ”» (Мф. 5:44)» [Захаров: 279]. Онъ въ равной степени сострадательно любитъ «падшую» Настасью Филипповну и погрязша-го въ невѣріи и злобѣ Ипполита. Для него по-христіански каждый человѣкъ въ отдѣльности представляетъ великую цѣнность. Борьба за просвѣтленiе души каждаго человѣка велась княземъ самоотверженно до самаго конца.
Такимъ примѣромъ любви является исторiя изъ швейцар-скаго періода жизни князя Мышкина: онъ со свойственной ему христіанской заботой пробуждаетъ чувство уваженія сельчанъ, обижавшихъ долгое время бѣдную больную дочь торговки по имени Мари. Проявляя христіанскую добродѣтель, князь постепенно своимъ отношенiемъ добивается ея признанія, а затѣмъ и искренняго прiятiя, основаннаго на христіанскомъ чувствѣ любви къ ближнему. Оно пробуждается сначала среди дѣтей, а затѣмъ и вовсе у всѣхъ односельчанъ: дѣвушка, несмотря на свою скорую смерть, «умерла почти счастливая» (79). Благодаря именно дѣйствiямъ князя всѣ окружавшiе его люди преобразились:
«Черезъ нихъ (жителей села. — А. С .) она забыла свою черную бѣду» (79).
Финальная сцена романа, въ которой впавшій въ безпамят-ство Левъ Николаевичъ сидитъ подлѣ Рогожина, терзаемаго горячечнымъ бредомъ, наиболѣе показательнымъ образомъ иллюстрируетъ всепреодолимую и безконечную въ своей искренности любовь князя къ человѣку, совершившему убійство единственной женщины въ мірѣ, способной понять свѣтлую душу князя. Онъ не испытываетъ злобы или ненависти къ этому человѣку. Презрѣніе или страхъ также чужды Мышкину въ эту минуту. Единственное чувство, которое не покидаетъ потрясеннаго до безпамятства Льва Николаевича, — это состраданіе къ Рогожину, къ его заблудшей душѣ:
«Князь сидѣлъ подлѣ него неподвижно на подстилкѣ и тихо, каждый разъ при взрывахъ крика или бреда больнаго, спѣшилъ провесть дрожащей рукой по его волосамъ и щекамъ, какъ бы лаская и унимая его» (629).
Надежда на спасеніе заблудшей души Рогожина не покидаетъ Мышкина до послѣдняго.
Любовь восходящая (amor ascendens)
Дѣтская любовь. Въ дѣтской любви В. C. Соловьёвъ видѣлъ безкрайне чистую сущность любви, соединяющей въ себѣ любовь восходящую, «которая болѣе получаетъ», и нисходящую, «которая болѣе даетъ» ( Соловьёвъ , т. 10: 236). Но для того чтобы умѣть нисходить въ своей любви (жертвовать, отдавать) необходимо сначала научиться восходить въ ней. Такъ какъ большинство процессовъ обученія и осваиванія навыковъ человѣкомъ проходятъ именно въ дѣтскомъ возрастѣ, то и вся полнота любви восходящей раскрывается въ этотъ періодъ человѣческой жизни.
Дѣтская любовь по своему опредѣленію есть любовь искренняя и неподдѣльная. Её невозможно обмануть или исказить. Данный мотивъ о чистотѣ дѣтской любви проходитъ черезъ весь романъ. Дѣтская любовь открыта мiру, поэтому «отъ дѣтей ничего не надо утаивать, подъ предлогомъ, что они маленькiе и что имъ рано знать» (73). Дѣтское сердце столь же чисто и открыто къ новымъ откровеніямъ, сколько же кри-сталенъ и безоблаченъ ихъ свободный отъ пороковъ разумъ.
Въ романѣ наиболѣе характернымъ образомъ любовь дѣтская проявлена въ эпизодѣ съ Мари, которую «проѣзжiй французскiй комми соблазнилъ <…> и увезъ, а черезъ недѣлю на дорогѣ бросилъ одну и тихонько уѣхалъ» (74). Дѣвушка стала объектомъ насмѣшекъ и жертвой ненависти въ деревнѣ. Однако стараніями благороднаго сердца князя Мышкина Мари всё-таки удалось спасти. И именно дѣти стали тѣмъ самымъ тонкимъ «мостикомъ» человѣколюбія, который вер-нулъ сельчанамъ ихъ утерянное состраданіе къ униженной и оскорбленной дѣвушкѣ. Этотъ примѣръ иллюстрируетъ и въ буквальномъ смыслѣ воплощаетъ въ жизнь ранѣе ска-занныя слова князя: «Черезъ дѣтей душа лѣчится…» (73). Дѣтская восходящая любовь, въ отличіе отъ взрослой, столь чиста и доступна для новыхъ обрѣтеній. Дѣти искренне повѣрили въ слова Льва Николаевича и стали первыми послѣ князя людьми въ деревнѣ, которые открыли свою душу для любви къ бѣдной дѣвушкѣ. Стоитъ замѣтить, что не пасторъ, не родная мать, не ужъ тѣмъ болѣе сельчане, а именно дѣти первыми стали подавать руку помощи нуждающейся: и въ этомъ они проявили безпредѣльную самоотверженность и чистоту намѣреній. Въ простомъ, и въ то же время глубокомъ, по своему внутреннему наполненію душевному отклику заключается главная особенность любви дѣтской. Способность любить и отдаваться цѣликомъ этому чувству, невзирая на любыя «раціональныя» преграды на пути въ его воплощеніи. Для нихъ это была дѣйствительно радость восхожденiя, обретенiя дара любви:
«Дѣтямъ запретили даже и встрѣчаться съ нею, но они бѣгали потихоньку къ ней въ стадо, довольно далеко, почти въ полверстѣ отъ деревни; они носили ей гостинцевъ, а иные просто прибѣгали для того, чтобы обнять ее, поцѣловать, сказать: “Je vous aime Marie!”» (77).
Страстная любовь. Безудержнымъ влеченіемъ, какъ и дѣтская любовь, какъ ни странно, характеризуется страстная любовь. Она представляется по своей сути чувствомъ настолько мощнымъ, что ея необузданность зачастую имѣетъ всѣ предпосылки для полнаго овладѣнія разумомъ своего носителя, вплоть до потери контроля надъ собой въ выраже-ніи этой любви.
Въ романѣ носителемъ страстнаго влеченія, «страстно-непосредственной любви»5, по замыслу Достоевскаго, является Парѳёнъ Семёновичъ Рогожинъ. Этотъ герой можетъ по праву считаться олицетвореннымъ воплощеніемъ страсти.
В. С. Соловьёвъ, характеризуя такую «страстно-непосредственную» (половую) любовь, вскрываетъ её трагический парадоксъ: онъ называетъ её «обманутой природой» (Соло-вьёвъ, т. 7: 30). Въ такой любви, казалось бы, обнаруживаются всѣ признаки жертвеннаго выхода изъ себя: «перенесенiя всего нашего жизненнаго интереса изъ себя въ другое» (Со-ловьёвъ, т. 7: 21), «проблесковъ неземного блаженства», «вѣянiя нездѣшней радости» (Соловьёвъ, т. 7: 46). Однако постоянное возвращенiе «къ смыслу животному» (Соловьёвъ, т. 7: 48), чѣмъ отличается страстная любовь, ведётъ къ её угасанiю: «…лю-бовный паѳосъ приходитъ и проходитъ» (Соловьёвъ, т. 7: 49). «Отсюда же, — заключаетъ В. С. Соловьёвъ, — и глубочайшее страданiе любви, безсильной удержать свой истинный пред-метъ и всё болѣе и болѣе отъ него удаляющейся» (Соло-вьёвъ, т. 7: 46).
Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что князь Мышкинъ, умѣющiй читать знаки судьбы, пророчески заявляетъ Парѳёну, предчувствуя печальную развязку его отношенiй съ Настасьей Филипповной:
«…твою любовь отъ злости не отличишь <…> а пройдетъ она, такъ, можетъ, еще пуще бѣда будетъ <…> Ненавидѣть будешь очень ее за эту теперешнюю любовь, за всю эту муку, которую теперь принимаешь» (220).
Злоба, обрушившаяся въ конечномъ итогѣ на Настасью Филипповну, имѣетъ ту же природу, что и любовь, которую ранѣе къ ней испытывалъ Рогожинъ: «…возвращенiе къ смыслу животному». Что бы ни дѣлалъ Парѳёнъ Рогожинъ, его дѣйствія всегда будутъ сопровождаться непреодолимой страстью. Она же въ конечномъ итогѣ и приведётъ его къ фатальному рѣшенію: «Рогожин воплощает стихийное начало жизни. Он ни за что не уступит Настасью Филипповну сопернику. Любовь мыслится им как безраздельное обладание другим. В отчаянье и тоске герой сознает, что Настасья Филипповна не дается ему, ей мало быть “рогожинской”, она хочет иных проявлений любви. Парфен стремится подчинить или уничтожить то, что противится его воле. Он готов убить князя Мышкина, который только что стал его крестным братом. Он убивает Настасью Филипповну» [Захаров: 285].
Любовь уравновешенная (amor aequalis)
В. С. Соловьёвъ въ работѣ «Смыслъ любви», описавъ формы проявленія любви нисходящей и восходящей, указываетъ на то, что каждая изъ нихъ потенціально сопряжена съ противоположной формой: «Такимъ образомъ, истинная любовь есть нераздѣльно и восходящая, и нисходящая (amor ascendens и amor descendens…)» (Соловьёвъ, т. 7: 46).
Братская любовь. Братская любовь — это форма проявле-нiя уравновѣшенной любви. Конечно, можно говорить, что въ романѣ Достоевскаго такая любовь, представленная какъ сестринская, находитъ воплощенiе во взаимоотношенiяхъ сестёръ Епанчиныхъ. Сёстры Епанчины, Аглая, Аделаида и Александра, живутъ въ атмосферѣ согласiя. Онѣ прекрасно образованны, увлечены чтеніемъ, живописью, музыкой. По своимъ характерамъ сёстры дополняютъ другъ друга, умѣютъ найти общій языкъ и компромиссныя рѣшенія. Если младшей сестрѣ Аглаѣ свойственна рѣзкая перемѣна настроеній, то старшая сестра является ея полной противоположностью, дѣвушкой спокойной и сдержанной, а средняя Аделаида вобрала въ себя черты характеровъ двухъ сестёръ. На эти идиллическiя отношенiя авторъ указываетъ въ самомъ началѣ романа:
«Извѣстно было, что онѣ замѣчательно любили другъ друга и одна другую поддерживали» (20).
Однако идиллическая замкнутость братской любви не можетъ — безъ испытанiй и невзгодъ (безъ страданiя) — претендовать на жизнеспособность. Такое испытанiе выпадаетъ на долю Варвары Ардаліоновны, любящей брата и идущей ради него на хитрость:
«Видя брата въ несчастiи, она (Варвара. — А. С .) захотѣла помочь ему, несмотря на всѣ прежнiя семейныя недоумѣнiя» (479).
Выраженіемъ любви Варвары къ брату становится ея внѣдреніе въ семейство Епанчиныхъ:
«Она задала себѣ задачу обернуть ихъ обоихъ, брата и Аглаю, опять другъ къ другу» (479).
Этотъ жестъ со стороны Варвары Ардаліоновны былъ цѣли-комъ и полностью детерминированъ альтруистическимъ желаніемъ помочь брату.
Однако, какъ справедливо замѣтила Т. А. Касаткина, такого рода служенiе ближнему характеризуются «границами, совпадающими с границами отдельного человеческого тела» [Касаткина, 2021b: 14], и даже семейная идиллiя не рѣшаетъ проблему «вселенскаго братства»: «Итак, пара — это еще более радикальная отделенность, обособленность, чем единица, потому что в результате уединения пары человек способен ощутить свою “достроенность” и завершенность, чего почти никогда не удается отъединенному я . Пара — это максимально устойчивая структура природной природы, которая наиболее успешно способна отстаивать свою отдельность» [Касаткина, 2021b: 25].
Рѣшеніе проблемы любви въ романѣ связано съ вѣрой. «Дѣло истинной любви, — писалъ В. С. Соловьёвъ, — прежде всего основывается на вѣрѣ » ( Соловьёвъ , т. 7: 43). А это опять обращаетъ насъ къ реально зримому мистическому центру романа — къ картинѣ Ганса Гольбейна Младшаго «Мёртвый Христосъ въ гробу». Впечатлѣнiе отъ этого полотна довольно точно, оттого и пугающе, передаётъ Ипполитъ:
«Но странно, когда смотришь на этотъ трупъ измученнаго человѣка, то рождается одинъ особенный и любопытный во-просъ: если такой точно трупъ (а онъ непремѣнно долженъ былъ быть точно такой) видѣли всѣ ученики Его, Его главные будущіе апостолы, видѣли женщины, ходившія за нимъ и стоявшія у креста, всѣ вѣровавшіе въ него и обожавшіе Его, то какимъ образомъ могли они повѣрить, смотря на такой трупъ, что этотъ мученикъ воскреснетъ? Тутъ невольно приходитъ понятіе, что если такъ ужасна смерть и такъ сильны законы природы, то какъ же одолѣть ихъ? Какъ одолѣть ихъ, когда не побѣдилъ ихъ теперь даже Тотъ, Который побѣждалъ и природу при жизни Своей, Которому она подчинялась, Которой воскликнулъ: “Талиѳа куми”, — и дѣвица встала, “Лазарь, гряди вонъ”, — и вы-шелъ умершій? Природа мерещится при взглядѣ на эту картину въ видѣ какого-то огромнаго, неумолимаго и нѣмаго звѣря или, вѣрнѣе, гораздо вѣрнѣе сказать, хоть и странно, — въ видѣ какой-нибудь громадной машины новѣйшаго устройства, которая безсмысленно захватила, раздробила и поглотила въ себя, глухо и безчувственно, великое и безцѣнное Существо — такое Существо, Которое одно стоило всей природы и всѣхъ законовъ ея, всей земли, которая и создавалась-то, можетъ-быть, единственно для одного только появленія этого Существа!» (420–421).
Ипполитомъ выражается одна изъ ключевыхъ мыслей романа о воскрешеніи Христа послѣ его смерти, которую справедливо многіе литературовѣды проецируютъ на неоднозначную концовку «Идіота» и на центральную проблематику романа. Въ частности, можно отмѣтить выводъ, сдѣланный В. Н. За-харовымъ въ статьѣ «Воскрес ли мертвый Христос?»: «В этом откровении состоит художественная правда романа: природа сокрушила плоть, но жив дух князя Мышкина, вочеловечен идеал, восхитительно явление “положительно прекрасного человека” среди людей» [Захаров: 298].
Однако, возвращаясь непосредственно къ полотну и его роли въ романѣ, мы выдѣлимъ наиболѣе значимой для разсмотрѣнія сцену разговора князя съ Рогожинымъ въ его домѣ, гдѣ «надъ дверью въ слѣдующую комнату висѣла одна картина…» (224). Именно въ этомъ эпизодѣ описанъ довольно лаконичный, но глубокій въ посылѣ діалогъ между героями. Дѣло въ томъ, что картина Гольбейна Младшаго вопло-щаетъ довольно тривіальный среди художниковъ минувшихъ эпохъ сюжетъ — мёртваго Христа въ гробу. Особенностью его полотна становится то, какъ онъ представилъ этотъ знакомый каждому христіанину образъ. Его картина «довольно странная по своей формѣ, около двухъ съ половиной аршинъ въ длину и никакъ не болѣе шерсти вершковъ въ высоту» (224), — что уже однимъ своимъ видомъ представляетъ тѣсное пространство съ тѣломъ во всю длину. Зритель, наблюдающій изображеніе, какъ бы невольно заглядываетъ въ пріоткрытый гробъ, въ ко-торомъ покоится Христосъ. Дальше — больше. Само тѣло Господа нарисовано такъ, какъ никогда ранѣе смерть Его не изображалась въ живописи. Это не смерть Христа, воплощенная, къ примѣру, въ работѣ Рафаэля «Преображеніе» (1516–1520), где художникъ показалъ смерть какъ процессъ невѣроятный для Бога, но всё въ Его окруженіи говоритъ о скоромъ воскресеніи Господа. Въ работѣ Гольбейна Младшаго смерть изображается въ ея естественномъ видѣ: съ тлѣющими пальцами рукъ и ногъ, съ заостренными отъ изсушенія чертами лица. Смерть какъ она есть. Именно въ этомъ ужасѣ и страхѣ художникъ и передалъ истинную вѣру людей, видѣвшихъ эту картину въ новозавѣтную пору воочію, своими собственными глазами. Та сила воли и упорство, что не позволили апо-столамъ отречься отъ своей вѣры при видѣ настоящей смерти, поразили Гольбейна.
Въ романѣ же князь подмѣчаетъ авторскую задумку, говоря:
«Да отъ этой картины у иного еще вѣра можетъ пропасть!» (225).
На что съ отчаяніемъ отвѣчаетъ Рогожинъ:
«Пропадаетъ и то…» (225).
Данная сцена косвеннымъ путёмъ иллюстрируетъ отношеніе обоихъ героевъ къ вѣрѣ, вѣрѣ настоящей, исходящей изъ любви къ Богу, которой, какъ выясняется, у Рогожина, въ отличіе отъ князя, нѣтъ, ибо его удѣлъ любить страстно, до ненависти. А такой любовью къ Господу, не преобразившись, не приблизиться и не открыть своего сердца для христiанской любви къ ближнему и дальнему.
Список литературы Концепт любви и формы его воплощения в роман М. Достоевскаго «Идиот»
- Борисова В. В. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: история и типология понимания // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2018. № 4. С. 194–200.
- Евлампиев И. И. Роман «Идиот»: Христос как идеал любовных отношений людей и как символ истинного бессмертия // Евлампиев И. И. Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Ф. М. Достоевского. СПб.: РХГА, 2021. С. 363–466.
- Есаулов И. А. Анализ, интерпретации и понимание в изучении литературы // Есаулов И. А., Тарасов Б. Н., Сытина Ю. Н. Анализ, интерпретации и понимание в изучении наследия Достоевского. М.: Индрик, 2021. С. 7–30. (a)
- Есаулов И. А. Представления о «карнавале», «норме», «своем» / «чужом» и проблема контекстов понимания («Идиот») // Есаулов И. А., Тарасов Б. Н., Сытина Ю. Н. Анализ, интерпретации и понимание в изучении наследия Достоевского. М.: Индрик, 2021. С. 73–101. (b)
- Захаров В. Н. Воскрес ли мертвый Христос? // Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Индрик, 2013. С. 272–299.
- Иванова С. В. Типология жеста: захват запястья // Зеленый зал-3. Альманах. СПб.: Российский институт истории искусств, 2013. С. 55–72.
- Исупов К. Г. Князь Мышкин и его миссия // Универсум Ф. М. Достоевского. СПб.: РХГА, 2021. С. 433–441.
- Касаткина Т. А. Смерть, новая земля и новая природа в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2020. № 3. С. 16–39.
- Касаткина Т. А. «Я великая, великая грешница…»: Богословие греха в «Преступлении и наказании» и «Идиоте» // Богословие Достоевского / отв. ред. Т. А. Касаткина. М.: ИМЛИ РАН, 2021. С. 184–196. (a)
- Касаткина Т. А. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: о высшей и низшей природе человека // Христианское чтение. 2021. № 4. С. 14–30. (b)
- Кибальник С. А. Основные тенденции современного изучения творчества Ф. М. Достоевского // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2020. Т. 79. № 4. С. 67–83.
- Орвин Д. «Идиот» и проблема любви к другим и себялюбия в творчестве Ф. М. Достоевского // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. Сборник работ отечественных и зарубежных ученых. М.: Наследие, 2001. С. 405–424.
- Свительский В. А. «Сбились мы. Что делать нам!‥»: к сегодняшним прочтениям романа «Идиот» // Достоевский и мировая культура. СПб.: Серебряный век, 2000. № 15. С. 205–228.
- Соина О. С., Сабиров В. Ш. Князь Мышкин: совершенный человек в несовершенном обществе // Соина О. С., Сабиров В. Ш. Философская антропология Ф. М. Достоевского. СПб.: РХГА, 2021. С. 150–205.
- Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс: Вильтис, 1991. 599 с.