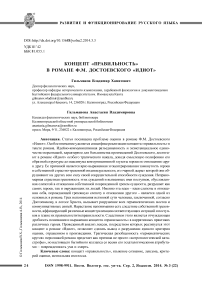Концепт «правильность» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
Автор: Гильманов Владимир Хамитович, Гильманова Анастасия Владимировна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 3 (22), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме оценки в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». Особое внимание уделяется специфике реализации концепта «правильность» в тексте романа. Идейно-коммуникативная разъединенность и экзистенциальное одиночество персонажей, характерное для большинства произведений Достоевского, достигают в романе «Идиот» особого трагического накала, доводя смысловую полифонию его образной структуры до максимума коммуникативной глухоты героев по отношению друг к другу. Ее причиной является ярко выраженная эгоцентрированная замкнутость героев в собственной страстно-греховной индивидуальности, из «черной дыры» которой они обрушивают на других всю силу своей сокрушительной способности суждения. Неправомерная страстная греховность этих суждений и вызванных ими поступков, обусловленная слепотой в отношении собственной поврежденной грехом сущности, разрушает как самих героев, так и окружающих их людей. Именно эта идея - идея слепоты в отношении себя, порождающей греховную слепоту в отношении другого - является одной из основных в романе. Грех непонимания истинной сути человека, заключенной, согласно Достоевскому, в логосе Христа, вызывает разрушение всех герменевтических мостов и коммуникативных связей. Нарастание непонимания есть следствие собственной греховности, аффицирующей различные концептуализации соответствующих ситуаций и поступков в плане их правильности/неправильности. Следствием этого является отчуждающая дробность понимания и выражения концепта «правильность» в нарративных практиках различных героев. Проведенный анализ лексем, посредством которых реализуется этот концепт в романе «Идиот», позволяет сделать вывод о разрушении единого критерия оценки, отраженном в произведении. Трагическая разобщенность «герменевтических кругов» персонажей романа предстает как причина не просто «антропологической катастрофы», но настоящего бытийного коллапса со всеми его эсхатологическими атрибутами - поврежденность ума и смерть.
Концепт "правильность", языковое сознание, лексема, критерий оценки, ментальная изоглосса
Короткий адрес: https://sciup.org/14969782
IDR: 14969782 | УДК: 8142 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2014.3.3
Текст научной статьи Концепт «правильность» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
DOI:
Концептосфера творчества Ф.М. Достоевского продолжает оставаться «зоной» великих испытаний для исследователей, поскольку имеет подчеркнуто экзистенциальную специфику. Вхождение в эту «зону» неизбежно связано с герменевтическими опасностями по причине того, что концепты художественного мира Достоевского проявляют примечательную асимметричность между их денотативным объемом и смысловым наполнением. Толкование этих концептов необходимым образом предполагает психоаналитическое включение в их экзистенциальную дискур-сивность, каковая, по сути своей, у Достоевского всегда полифонична [1, с. 89]. Исследователь обречен на погружение в карнавал взаимодействующих нарративных практик, в которых смысл используемых нарраторами лексем скорее переживается, чем ясно дискур-сивно понимается в той или иной ситуации коммуникативной лихорадки. Это обусловлено общей направленностью художественного метода Достоевского в поле концептуального напряжения между романтической субъектностью и христоцентрическим экзистенциализмом, что, в свою очередь, имеет отношение к феноменологии бессознательного. Именно этим объясняется значительное влияние Достоевского на психоанализ и мировую традицию экзистенциализма, а также то, что многие из его концептов представляют собой «ментальные изоглоссы» (термин Ю.С. Степанова, см.: [2, с. 34]). К таким концептам относятся, прежде всего, те, которые представлены в концептосфере двух важнейших для генеалогии мирового экзистенциализма произведений Достоевского – «Записки из подполья» и «Идиот».
Роман Достоевского «Идиот» недаром назван К.А. Степаняном «романом-загадкой» [3, c. 123]: исследователи оценивают его крайне неоднозначно. В то же время наиболее обоснованной и продуктивной представляется попытка «раскодировать» текст романа, обращаясь к Библии. Данная статья посвящена, однако, не библейской символике в романе, а проблеме оценки – одной из центральных как в Библии, так и в «Идиоте». Возможно, ситуативно ярче всего проблема оценки выражена в Библии в ветхозаветной истории царя Давида, которому надо было увидеть свой собствен- ный грех в другом, чтобы осудить себя: «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это… И сказал Нафан Давиду: ты – тот человек» (2 Царств 3, 12: 5–7).
Христианский постулат о неправомерности суда над другим в ситуации неосознаваемой собственной греховности («И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Матфей 7: 3) является одной из основных идей текста романа. Слепота в отношении собственной греховности в романе Достоевского сочетается сo слепотой в отношении другого. «Идиот» – это роман о непонимании, о невозможности адекватного восприятия другого. Князь Мышкин в разговоре с Радомским восклицает: Почему мы никогда не можем всего узнать про другого, когда это надо, когда этот другой виноват! (с. 660) 1. Это непонимание в романе является свидетельством разрушения некоего общего критерия правильности, которое приводит к коммуникативной неспособности героев, к невозможности услышать друг друга. Роман «Идиот», пожалуй, наиболее «полифоничный» из всех романов Достоевского, но эта полифония со знаком минус, так как она исключает возможность диалога и оказывается свидетельством коммуникативной глухоты большинства героев, трагичной и для них самих, и для окружающих.
В этой ситуации концепт «правильность» для каждого из героев реализуется по-разному. Проанализируем содержание данного концепта в языковом сознании большинства героев и персонажей романа, чтобы выявить, насколько оно разнится.
Та же четкость в разделении правильного и неправильного свойственна персонажу с совершенно иным социальным положением – «не окончившему курса» Докторенко. «Правильность» выражается в его речи через лексемы гордость , свобода , право, здравый смысл , которые заменяют честь и совесть : …благородный и честный человек …есть все равно что здравомыслящий человек… …если в вас есть то, что вы называете на языке вашем честью и совестью и что мы точнее обозначаем названием здравого смысла, то удовлетворите нас… вы делаете не для нас, а для справедливости (с. 305). Четкое разделение правильного-сво-его и неправильного-чужого и постулирование превосходства разума над душой и сердцем качественно сближает, казалось бы, несоот-носимые взгляды Тоцкого и «социалистов» на правильность .
Правильность Рогожина в романе также вполне однозначна: это врожденная пра- вильность всей «рогожинской жизни», правильность его отца, правильность, отраженная в семантике лексем деньги, порядок, старая вера: «В батюшку ты!», говорит Рогожину князь Мышкин (с. 237), и замечает то же, что и Настасья Филипповна: если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в-точь как твой отец бы стал, да и в весьма скором времени (с. 242). Ср., высказывание Настасьи Филипповны: стал бы деньги копить, и сел бы, как отец, в этом доме со своими скопцами... и не два миллиона, а, пожалуй бы, и десять скопил (с. 243). Страсть к Настасье Филипповне самим Рогожиным изначально видится как отступление от исконной отцовской правильности, как грех: я действительно чрез Настасью Филипповну… родителя раздражил… Попутал грех (с. 13). Находясь во власти страсти, Рогожин не приходит к открытию иной правильности и продолжает оставаться Рогожиным, воспринимая Настасью Филипповну в контексте правды своего отца: что она надо мной в Москве выделывала! А денег-то, денег сколько я перевел (с. 238).
Однако неправильная страсть оказывается для Рогожина сильнее отцовской правды, он не в силах ей противостоять: У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, – одна расправа – убьет! Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел; всю ту ночь не спал (с. 14). Более того, эта неправильная страсть делает невозможным и возврат к прежнему размеренному укладу жизни, лишает Рогожина законной основы существования: Умру, говорю [Настасье Филипповне], не выйду, пока не простишь, а прикажешь вывести – утоплюсь; потому – что я без тебя теперь буду? (с. 239); Вот как у нас теперь… Как ты обо всем этом думаешь, Лев Николаевич? – Сам как ты думаешь? – переспросил князь... – Да разве я думаю! – вырвалось у того. Он хотел было еще что-то прибавить, но промолчал в неисходной тоске (с. 241). И все же Рогожин решает эту дилемму в контексте правды своего отца, убивая Настасью Филипповну в своем доме и решая ее ни за что… и никому не отдавать (с. 688).
Однако для большинства героев и персонажей романа представление о правильности оказывается не столь однозначным. Так, в речи лакея Епанчиных концепт «правильность» репрезентируется лексемами следует , прилично , порядок , амбиция . Поведение князя, пожелавшего поговорить со слугой вместо того, чтобы ждать в приемной, характеризуется лакеем как неправильное – чудное , неприличное , нелепое – и вызывает в нем решительное и грубое негодование (с. 24): Нет, здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать… […] …вам здесь и находиться не следует… , так как что совершенно прилично человеку с человеком… совершенно неприлично гостю с человеком (с. 23). Однако слова князя меняют отношение слуги к нему, и лакей начинает относиться к Мышкину именно как человек к человеку, неправильно с позиций приличий и этикета, но правильно в соответствии с голосом сердца: Камердинер… главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его ; Если уж так вам желательно… покурить, то оно, пожалуй, и можно, коли только поскорее… только форточку растворите, потому оно непорядок (с. 27).
Тот же выбор между принятым в обществе, формальным представлением о правильности и ощущением правильности сердцем делают Елизавета Прокофьевна и Аглая. Так, Елизавета Прокофьевна отвергает мысль о возможности сватовства князя к Аглае как нелепую и вздорную, так как подобный брак не может считаться правильным с позиций света: князь непозволительный демократ, без чина (с. 574), больной, странный и слишком уж незначительный (с. 575). Однако именно сердце подсказывает ей неправильность такого отношения: Прежде всего уж то, что «этот князишка – больной идиот… ни света не знает, ни места в свете не имеет… Да и такого ли… мужа воображали и прочили мы Аглае?»… Сердце матери дрожало от этого помышления,…хотя в то же время что-то и шевелилось внутри этого сердца, вдруг говорившее ей: «а чем бы князь не такой, какого вам надо?» (с. 574). Несмотря на мучительные колебания, Елизавета Прокофьевна всегда выбира- ет правильность сердца. Ее взгляд на планируемый брак Тоцкого с Александрой диаметрально противоположен взгляду Тоцкого: лексемой этикет (внешняя форма) выражается концепт «неправильность», тогда как «правильность» связывается с внутренним содержанием, откровенностью, ясностью и честностью: у нас, видите ли… здесь теперь все секреты… Так требуется, этикет какой-то, глупо. И это в таком деле, в котором требуется наиболее откровенности, ясности, честности. Начинаются браки, не нравятся мне эти браки (с. 94).
Правильность сердца Елизаветы Прокофьевны связана с христианским представлением о должном и справедливом, а потому «разумное» и эгоистичное представление о правильности выразителя «новой философии» Докторенко ею определяется как в корне неправильное, как сумбур , хаос , безобразие , низость . Правильность «новой философии» для Елизаветы Прокофьевны является «вывернутой» правильностью черта, обратной тому, что должно в истинной вере: Это низость, низость! Это хаос, безобразие, этого во сне не увидишь! …Он Бурдовский] денег твоих… пожалуй, по совести не возьмет, а ночью придет и зарежет, да и вынет их из шкатулки. По совести вынет! …все навыворот, все кверху ногами пошли… Сумасшедшие! Тщеславные! В бога не веруют, в Христа не веруют! …И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это? (с. 323–325).
Аглая, будучи, по словам князя, очень похожей на Лизавету Прокофьевну (с. 487), отличается от матери обостренной стыдливостью и скрытностью в выражении чувств. Об этом говорит Елизавета Прокофьевна: дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с сердцем без ума, а ты дура с умом без сердца; обе мы и несчастны, обе и страдаем (с. 94). В то же время представление Аглаи об «уме» двойственно: она разделяет разум и «главный ум» – правильность нравственного чувства: если говорят про вас [князя] … что вы больны иногда умом, то это несправедливо; …потому что хоть вы и в самом деле больны умом… то зато главный ум у вас лучше, чем у них всех, …потому что есть два ума: главный и не главный (с. 487). Борьба «двух умов» в Аглае острее, чем в ее матери. Так, «неглавным умом» Аглая считает отсутствие гордости в князе неправильным: Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы все в себе исковеркали, зачем в вас гордости нет? (с. 387). В то же время именно отсутствие гордости и способность прощать не только правильны с позиций главного ума, но и становятся причиной любви Аглаи к князю: …всякий, кто захочет, тот и может его обмануть, и кто бы ни обманул его, он потом всякому простит, и вот за это-то я его и полюбила… (с. 642). Аглая считает невозможным судить душу Ипполита и связывает неправильность такого суда с грубостью правды факта и отсутствием нежности – любви к человеку: А с вашей стороны я нахожу, что все это очень дурно, потому что очень грубо так смотреть и судить душу человека, как вы судите Ипполита. У вас нежности нет: одна правда, стало быть – несправедливо (с. 484).
Однако в объяснении с Настасьей Филипповной Аглая судит ее, изначально заявив о своей нелюбви, опираясь только на известные через третьих лиц факты, и считает свой суд правильным. Князь, восклицая: Аглая, остановитесь! Ведь это несправедливо (с. 645), тщетно взывает к ее «главному уму». В отличие от Елизаветы Прокофьевны, Аглая делает выбор не в пользу правильности нравственного чувства и теряет себя: …она попала в католическую исповедальню какого-то знаменитого патера, овладевшего ее умом до исступления (с. 695).
Отметим, что предел двойственности правильности проявляется в сознании Лебедева, который признается в неразделимости для него лжи и правды: и ложь, и правда – все у меня вместе и совершенно искренно (с. 354). Этот сплав несопоставимого Лебедев косвенно объясняет с позиций христианского мировидения: Дьявол одинаково [с Богом] владычествует человечеством до предела времен еще нам неизвестного (с. 424).
Правильность Мышкина связана с новозаветным представлением о человеке. С одной стороны, князь отдает себе отчет в гре- ховности каждого; так, на слова Фердыщенко: нет даже такого самого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл, Мышкин отвечает: Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете (с. 168). С другой стороны, правильным для Мышкина является не это свидетельство поврежденности человеческой природы, а тень образа Божьего в каждом.
«Правильность» в речи Мышкина эксплицируется лексемами сердце , сострадание (в противоположность неправильной «страсти»), жалость , прощение , детское , чистота , невинность , свет , свобода , ясность : надо… чтобы все ясно читали друг в друге, чтобы не было этих мрачных и страстных отречений… пусть все это совершится свободно и… светло (с. 260); …у него [Рогожина] огромное сердце, которое может и страдать, и сострадать. […] Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества (с. 261); Я ужасно люблю, что вы такой ребенок, такой хороший и добрый ребенок! Ах, как вы прекрасны можете быть, Аглая! (с. 595).
«Неправильность» в речи князя также связывается с внутренним миром человека и выражается лексемами мрак , страсть , безумие , сумбур , хаос , безобразие (несоответствие образу Христову): чужая душа потемки, и русская душа потемки… …какой иногда тут, во всем этом, хаос, какой сумбур, какое безобразие! (с. 259). Неправильностью является «атеизм», «неверие», отказ от Христа и попытка воспринимать жизнь с позиций бездуховного ума: Он человек действительно очень умный… В бога он не верует. Одно только меня поразило: что он вовсе как будто не про то говорил… ...хотя с виду и кажется, что про то (с. 248–249).
Именно сострадающий Мышкин более чем кто-либо другой ощущает невозможность «читать друг в друге», когда каждый слышит только то, что сам считает правильным, – в ситуации коммуникативного коллапса. Так, его попытка объясниться с ученым атеистом оказывается заведомо безуспешной: Я это ему тогда же и высказал, но, должно быть, неясно или не умел выразить, потому что он ничего не понял (с. 249), поскольку собеседник способен воспринимать только доводы разума и логики. Столь же невозможно объяснить уверенному в правильности собственных убеждений Докторенко, что он неправ в параметрах иного мировосприятия: Что именно вы тут пропустили, я не в силах и не в состоянии вам точно выразить, но для полной справедливости в ваших словах, конечно, чего-то недостает (с. 306). Признавая, что Радомский «может быть» «почти что» прав, анализируя отношения князя с Настасьей Филипповной разумно и ясно… с чрезвычайною даже психологией (с. 655), Мышкин, однако, не признает этот анализ «до конца правильным»: Видите, Евгений Павлович, я вижу, что вы, кажется, всего не знаете (с. 658). Объяснить, в чем не прав Радомский, князь ему не может, так как живущий «неглавным умом» Евгений Павлович этого не поймет; однако князя может понять еще сохраняющая способность детского восприятия Аглая: Видите: обе они говорили тогда не про то, совсем не про то, потому так у них и вышло… Я никак не могу вам этого объяснить; но я, может быть, и объяснил бы Аглае… (с. 658). Необходимо оговориться, что Радомский все же оказывается человеком, у которого есть сердце (с. 694), потенциально способным, избавившись от иронии, прийти к постижению правильности христианского чувства.
В ситуации с Настасьей Филипповной Мышкин пытается воззвать к тому же – сердцу, ощущению истины, которое в философии Достоевского видится заключенным практически в каждом человеке как частица Божьего образа. При первом же взгляде на портрет Настасьи Филипповны князь отмечает главную черту ее внешнего и внутреннего облика – гордость, которая в сознании Мышкина связана с неправильностью, так как в гордости человек проводит жесткую границу между собой и другим. Спасением для Настасьи Филипповны, по мысли князя, может стать оппозиционная гордости доброта (способность принять и простить другого): Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено! (с. 42). Однако все попытки Мышкина помочь оказываются тщетными:
гордость в Настасье Филипповне сильнее добра, сильнее любви, и эта гордость способна уничтожить не только ее, но и князя: В своей гордости она никогда не простит мне любви моей, – и мы оба погибнем! Это неестественно, но тут все неестественно… Неужели может быть такая любовь, после того, что я уже вытерпел! Нет, тут другое, а не любовь! (с. 495).
Гордость определяет внутреннюю сущность героини: правильным для Настасьи Филипповны становятся не доброта, любовь и свет, а то, что неправильно, неестественно для подлинной природы человека – мука, возмущение, отмщение, позор, обостренно и непрерывно переживаемый. Страдание становится для героини не способом очищения, не средством, а целью, источником «ужасного, неестественного наслаждения»; по словам князя, она слишком замучила себя самое сознанием своего незаслуженного позора! …в этом беспрерывном сознании позора для нее, может быть, заключается какое-то ужасное, неестественное наслаждение, точно отмщение кому-то. Иногда я доводил ее до того, что она как бы опять видела кругом себя свет; но тотчас же опять возмущалась (с. 493).
Отметим, что в редкие минуты просветления неправильность, разрушительность того, чему она отдается, признает сама Настасья Филипповна: я уже почти не существую, и знаю это; бог знает, что вместо меня живет во мне (с. 517). То, что живет в героине, в романе определяется как сумасшествие , безумие , болезнь души : бедная, больная душа не вынесла (с. 668). В параметрах этой «болезни» правильными являются мука, страдание и бегство от спасения, жажда разрушить себя: Да, конечно, это был сон, кошмар и безумие; но тут же заключалось и что-то такое, что было мучительно-действительное и страдальчески-справедли-вое, что оправдывало и сон, и кошмар, и безумие , – говорит князь (с. 515). Эта «болезнь души» Настасьи Филипповны ведет к смерти, и вера Мышкина в возможность воскрешения героини – [Князь] искренно верил, что она может еще воскреснуть (с. 667) – оказывается напрасной. Физическая смерть Настасьи Филипповны становит-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ся логическим завершением окончательного воцарения смерти в ее душе; эта «смерть души» означает крушение надежды Мышкина на спасение и в свою очередь погружает его в душевное небытие.
«Мужской вариант» смерти души выбирает в романе Ипполит Терентьев. Это не страстное, неестественное наслаждение страданием на сердечно-эмоциональном уровне, а процесс логического доказательства неправильности – ошибочности, жестокости, бесчувственности, глухоты, тьмы, наглости, бессмысленности, невозможности, несправедливости – самого бытия на уровне разума: мне как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то странной и невозможной форме, эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое… всесильное существо (с. 464); Я согласен, что… без непрерывного поядения друг друга устроить мир было никак невозможно… но… если уж раз мне дали сознать, что «я есмь», то какое мне дело до того, что мир устроен с ошибками и что иначе он не может стоять? Кто же и за что меня после этого будет судить? Как хотите, все это невозможно и несправедливо (с. 470–471). Ипполита и Настасью Филипповну объединяет одна главная черта – гордость. В минуту просветления Ипполит плачет и просит о помощи Лизавету Прокофьевну, говоря голосом сердца: у меня брат и сестры, дети, маленькие, невинные… Вы – святая, вы… сами ребенок – спасите их!.. …по-могите, вам бог воздаст за это сторицею, ради бога, ради Христа! (с. 338–339). Однако в следующее мгновение эти неправильные с позиций гордости искренние слова души он называет подлым малодушием , стыдом , бредом (с. 340–341). С позиций гордости неправильными оказываются покаяние и желание прощения: я… мечтал, что все они вдруг растопырят руки и примут меня в свои объятия, и попросят у меня в чем-то прощения, а я у них; одним словом, я кончил, как бездарный дурак (с. 444). Как и в ситуации Настасьи Филипповны, гордость делает неправильной любовь и исключает возможность спасения.
Таким образом, роман «Идиот» может быть рассмотрен как своеобразная картина разобщенного мира, в котором каждый замыкающийся в собственной правильности неспособен услышать другого. Об этой невозмож- ности коммуникации, ставшей нормой жизни, говорит перед своим уходом в безумие Настасья Филипповна после безрезультатной попытки вызвать чувство раскаяния в Тоцком: Он [Тоцкий] просто таков, каким должен быть (с. 188). Неспособность и нежелание услышать другого становятся причиной душевной само-утраты Настасьи Филипповны и Аглаи. Однако Достоевский на фоне гибели центральных героев романа оставляет и луч надежды, упоминая в «Заключении» о завязавшемся обмене письмами двух людей из разных слоев общества – Евгения Павловича Радомского и Веры Лебедевой, которая появляется в романе с новорожденной сестрой Любовью на руках. Особо отмечается, что кроме самого почтительного изъявления преданности, в письмах этих начинают иногда появляться (и все чаще и чаще) некоторые откровенные изложения взглядов, понятий, чувств, – одним словом, начинает проявляться нечто похожее на чувства дружеские и близкие (с. 694). Этот завязавшийся диалог оставляет в романе надежду на спасение и на преодоление Мейеровой стены (с. 445) из исповеди Ипполита Терентьева. «Стена» Ипполита, выступающая как когнитивная метафора, становится ментальной изоглоссой в дискурсе культуры мирового экзистенциализма и является «дискурсивным кодом» для драмы коммуникативного распада человеческого мира. В романе Достоевского каждый отделен от каждого стеной своего «герменевтического круга» со свойственным ему пониманием правильности, и эта стена, поистине, «стена плача», сравнимая с той, каковая в Иерусалиме символизирует стену, воздвигнутую грехом между Богом и человеком.
Список литературы Концепт «правильность» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
- Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского/М. М. Бахтин. -М.: Сов. Россия, 1979. -320 с.
- Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования/Ю. С. Степанов. -М.: Шк. «Яз. рус. культуры», 1997. -824 с.
- Степанян, К. А. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем смысле» как творческий метод Ф.М. Достоевского/К. А. Степанян. -М.: Раритет, 2005. -512 с.