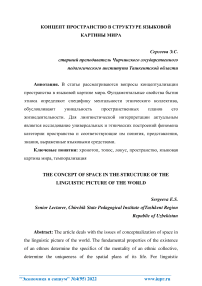Концепт пространство в структуре языковой картины мира
Автор: Сергеева Э.С.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Современные науки и образование
Статья в выпуске: 4-3 (95), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы концептуализации пространства в языковой картине мира. Фундаментальные свойства бытия этноса определяют специфику ментальности этнического коллектива, обусловливают уникальность пространственных планов его жизнедеятельности. Для лингвистической интерпретации актуальным является исследование универсальных и этнических построений феномена категории пространства и соответствующие им понятия, представления, знания, выраженные языковыми средствами.
Хронотоп, топос, локус, пространство, языковая картина мира, темпорализация
Короткий адрес: https://sciup.org/140292973
IDR: 140292973
Текст научной статьи Концепт пространство в структуре языковой картины мира
Keywrods: chronotope, topos, locus, space, linguistic picture of the world, temporalization
Спецификация этнодифференцирующих показателей (мировосприятие, национальный менталитет, культура, язык) обусловливается природно-географическими параметрами «пространства жизни». В связи с этим пословицы как когнитивный языковой знак, несущий информацию о культуре этноса, наиболее точно передает концептуальный комплекс, менталитет народа. Паремии русского языка свидетельствуют о гармоничном, искреннем отношении к природе, пословицы казахского народа свидетельствуют о социогенетической адаптированности к условиям кочевого экстрима. Этническое своеобразие языковых средств, выражающих пространственные параметры, обусловлено особенностями мироведения определенного этноса.
Модели и механизмы концептуализации и вербализации окружающей среды, психолингвистическое восприятие и национально-культурное отражение в языковом сознании личности и в различных языковых картинах мира остаются привлекательной областью исследований для современных лингвистов.
У представителей разных культур формируются разнообразные средства, развивающие пространственные представления, которые закрепляются и систематизируются. Восприятие пространства, по мнению
Г.Д. Гачева, напрямую зависит от национальных культур. В русском языке пространство имеет однокоренные слова ˝страна, сторона˝, французском языке espace имеет латинское происхождение.
˝Spatium – есть пространство, творимое и меряемое шаганием˝ [1, с. 38]. Соответственно пространство человека в языковых картинах мира определяется его средой обитания, атмосферой, географическим ландшафтом, флорой и фауной. Принадлежность к определенному этносу – это этническое пространство человека. Пространство для любого этноса, прежде всего, детерминируется географическим ландшафтом. Так, к примеру, в русской языковой картине мира оно возводится к понятиям простор, ширь, раздолье, дом, семья, этнос и т.д.; в казахской – кең дала, кең-байтақ, жазира, жазық, қазақ даласы, жайлау, отан, атамекен и др. По мере освоения цивилизации пространство человека расширяется. По мнению Г.Д. Гачева, русский образ пространства представляет собой горизонтальное движение, однонаправленную бесконечность [1, 56]. Пространство в русской языковой картине также может ассоциироваться с понятием мир в значении вселенной, системой мироздания. Мир воспринимается как ˝обжитое пространство˝ [2, с. 87]. Т.е. пространство, где живем мы, – отгороженное пространство ˝от внешнего мира и лишь потом – представление об этом ˝широком мире˝ за пределами нашего мира и дома˝ [2, с. 92]. С этим связан ряд выражений ˝мир посмотреть, себя показать˝, т.е. посмотреть запредельное пространство, ˝обжитое˝, посетить то место ˝на земле, вокруг нас˝, которое еще не изведано твоим этносом [2, с. 88], т.е. ˝чужое˝.
Каждой национальной картине мира свойствен свой набор концептов, определяющих пространственные понятия, наиболее точно отражающих мировосприятие и миропонимание определенного этноса. В казахском языке пространство также идентифицировано с ландшафтными характеристиками и определяется как ширь, степь. Для кочевого казаха пространство – это все, что находится под небом, оно безгранично, широко, раздольно, т.е. пространство – это окружающий мир: ˝шөл (пустыня), алқап (долина), шөл дала, дала, шөлейт (полупустыня), аланқай
(полянка), шабындық˝ [3, с. 274]. В казахской языковой картине мира пространство полностью сливается с природой. По мере освоения окружающего мира пространство расширяется. Однако истоки восприятия пространства уходят корнями в то время, когда кочевник и природа составляли одно целое. Семантика пространства имеет важное значение при формировании национальной картины мира.
Е.С. Кубрякова категоризацию пространства считает одной из наиболее «фундаментальных областей в познании мира»[4, с. 22]. Архаическое восприятие пространства она комментирует как «расстилающуюся во все стороны протяженность, сквозь которую скользит взгляд (пространство) и которая доступна при панорамном охвате в виде поля зрения при ее обозрении и разглядывании», как «обобщенное представление о целостном образовании между небом и землей». Данная целостность имеет чувственную основу, т.е.она «наблюдаема, видима, осязаема». Человек – часть целостного образования, он свободен в своих перемещениях, а также перемещает подчиненные ему объектах [4,с. 26]
По мнению В.Н. Топорова, основоположника теоретических исследований по проблемам концептуализации пространства специфические характеристики мифопоэтического восприятия пространства в архаической модели мира следующие:
С самого начала уместно подчеркнуть его отличие от того геометризованного гомогенного, непрерывного, бесконечно делимого и равного самому себе в каждой его части пространства, которое было постулировано физико-математической наукой (особенно после трудов Галилея и Ньютона) и на которое так или иначе (сознательно или бессознательно, обобщенно или детализировано) ориентировались и произведения художественной литературы и искусства «среднего» уровня.
В мифопоэтической модели мира пространство, как нередко и само слово для обозначения пространства (ср. античную традицию), не существовало; также ей было неизвестно и открытое позже Гоббсом, Лейбницем и Кантом пространство «наглядного созерцания». Впрочем, в этой архаичной модели можно было бы, по-видимому, разыскать некоторые аналогии или соответствия более поздним теориям пространства, хотя такие примеры характеризуют в этой модели, как правило, наименее сакрализованные и содержательно наиболее бедные части пространства (нечто вроде профанической протяженности).
В архаичной модели мира пространство не противопоставлено времени как внешняя форма созерцания внутренней. Вообще применительно к наиболее сакральным ситуациям (а только они и образуют уровень высшей реальности) пространство и время, строго говоря, не отделимы друг от друга, они образуют единый пространственно-временной континуум (ср. 3 + 1-мерность как основное топологическое свойство пространственно-временной структуры мира в современной физике, а также роль скорости как понятия, объединяющего пространство и время) с неразрывной связью составляющих его элементов. И хотя понятие пространственно-временного единства (хронотопа) в том виде, как оно было введено, например, в литературоведение (науку о художественно-литературных текстах) М. М. Бахтиным.
В мифопоэтическом хронотопе время сгущается и становится формой пространства (оно «спациализуется» и тем самым как бы выводится вовне, откладывается, экстенсифицируется), его новым («четвертым») измерением. Пространство же, напротив, «заражается» внутреннеинтенсивными свойствами времени (темпорализация пространства), втягивается в его движение, становится неотъемлемо укорененным в разворачивающемся во времени мифе, сюжете (т. е. в тексте). Все, что случается или может случиться в мире мифопоэтического сознания, не только определяется хронотопом, но и хронотопично по существу, по своим истокам.
Другая важная особенность, отличающая архаичное понимание пространства (или пространства—времени), заключается в том, что оно не предшествует вещам, его заполняющим, а наоборот, конституируется ими. Мифопоэтическое пространство всегда заполнено и всегда вещно; вне вещей оно не существует, и, следовательно, в определенном смысле категория пространства в этих условиях не может быть признана вездесуще-универсальной. Кроме пространства, существует еще непространство, его отсутствие, воплощением которого является Хаос, состояние, предшествующее творению (речь идет, таким образом, об отсутствии пространства до создания Вселенной во времени), или одновременное ему, т.е. в условиях уже наличествующего творения с его пространством [когда складывается оппозиция: пространство в Космосе (в центре) — отсутствие пространства в Хаосе, занимающем по отношению к Космосу пространственно периферийное положение], наконец, как пережиток внутри самого Космоса [в остатках хаотического начала, еще не переработанного космическими силами, когда отсутствие пространства («непространство») оказывается в глубинном центре Космоса, окружающем своим пространством область хаотического «непространства»]. Следовательно, пространство (или — точнее — пространственно-временной континуум) не только неразрывно связано со временем, с которым оно находится в отношении взаимовлияния, взаимоопределения, но и с вещественным наполнением (первотворец, боги, люди, животные, растения, элементы сакральной топографии, сакрализованные и мифологизированные объекты из сферы культуры и т. п.), т. е. всем тем, что так или иначе «организует» пространство, собирает его, сплачивает, укореняет в едином центре (язык пространства, сжатого до точки. . . .) [5, с. 227]
Таким образом, «бытие, есть пространство, и есть возникновение», кроме того, ученый отмечает зависимость пространства от мира вещей
(«мифопоэтическое пространство всегда заполнено и всегда вещно; вне вещей оно не существует») и неразрывность пространства / времени. Первобытное или архаичное сознание определяло пространство в соотнесении с конкретным отрезком времени «здесь и сейчас». Пространство вне времени «…принципиально неполно и тем самым лишено статуса истинности и сакральности»[5, с.228].
Самобытность этносов проявляется во внутренней этнической структуре и менталитете, которые, по мнению К.М. Абишевой, зависят от «социально-культурной формы адаптации этноса в определенной экологической нише, от степени вхождения его в биоценоз и ландшафт окружающей природы» [6,с. 338]. Другими словами, природногеографические условия предопределяют специфику формы хозяйствования, рода трудовой деятельности, устройства быта и «модели мира» этнических сообществ [7, с. 63].
Список литературы Концепт пространство в структуре языковой картины мира
- Гачев Г.Д. Национальные образы мира: курс лекций / Г.Д.Гачев.М.: Академия, 1998. 2 Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Изв. РАН СЛЯ 1993, №1. -С. 3-9.
- Апресян, Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира / Ю.Д. Апресян. // Семиотика и информатика: сб. научн. статей. Вып. 35. М.: Языки русской культуры, Русские словари, 1997. С. 272-297.
- Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М.
- Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я, Гуревич. М.: Искусство,
- Голубкова, Е.Е. Категория движения в современном английском языке и способы ее модификации (фразовые глаголы): дис. доктора филол. наук / Е.Е. Голубкова М„ 2002(2). 390 с.
- Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собр. соч. в 6-ти томах. М.. 1982. -Т.2.
- Akhmedov, B. (2022). Methodology of Teaching Informatics in Cluster Systems. International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology, 11(4), 3485-3491.
- Sergeyeva, E. (2020). Artistic Identity of L. Solovyov’s Novel “The Tale of Khodzha Nasreddin”. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(6), 33-37.
- Сергеева, Э. С. (2020). Приём понимания как один из способов интерпретации художественного текста. Academic Research in Educational Sciences, 1 (4), 310-314.
- Сергеева, Э. С. (2021). Категория пространства в художественной литературе. Экономика и социум, 1(80), 957-960.
- Sergeyeva, E. S. (2020). Adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish samarasi. Science and Education, 1(Special Issue 2), 121-126.
- Сергеева, Э. С. (2020). Образ культурного пространства романов Л. Соловьева «Повесть о Ходже Насреддине» И А. Волоса «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАНДЖРУД». Экономика и социум, (11), 1275-1279.
- Сергеева, Э. С. (2020). Изучение текста литературного произведения в процессе преподавания иностранного языка. Преподавание языка и литературы, 6, 78-80.
- Сергеева, Э. С. (2018). Топос как единица художественного пространства произведения. Вестник НУУз, 1(1/3), 470-473.
- Сергеева, Э. С., & Абдуахатова, А. А. (2021). Эстетические поиски в прозе Ч. Айтматова. Academic research in educational sciences, 2(8), 337-342.