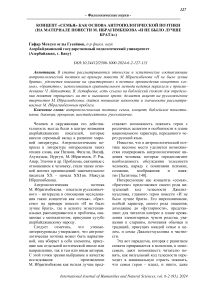Концепт «семья» как основа антропологической поэтики (на материале повести М. Ибрагимбекова «И не было лучше брата»)
Автор: Гусейнов Г.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 6-2 (93), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются этические и эстетические составляющие антропологической поэтики на примере повести М. Ибрагимбекова «И не было лучше брата», уделяется внимание на «растворение» в поэтике произведения концептов «семья», «братство»; использованием сравнительного метода ведется параллель с произведениями Ч. Айтматова, В. Астафьева; есть ссылка на библейский сюжет для определения понятия «прощение» на то и нынешнее время; делается акцент на русскоязычное творчество М. Ибрагимбекова; даётся понимание важности и значимости рассматриваемых М. Ибрагимбековым проблем.
Антропологическая поэтика, семья, концепт, библейское повествование, бакинцы, прощение, шестидесятники, русскоязычие
Короткий адрес: https://sciup.org/170205410
IDR: 170205410 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-6-2-127-131
Текст научной статьи Концепт «семья» как основа антропологической поэтики (на материале повести М. Ибрагимбекова «И не было лучше брата»)
Человек и окружающая его действительность всегда были в центре внимания азербайджанских писателей, которые внесли огромный вклад в развитие мировой литературы. Антропологические вопросы в литературе интересовали таких гениев слова, как Низами, Физули, Вагиф, Ахундзаде, Вургун, М. Ибрагимов, Р. Рза, Анар, Эльчин и др. Проблемы, связанные с отношением к человеку, стали также основой многих произведений замечательного писателя ХХ – начала XXI вв. Максуда Ибрагимбекова.
Антропологическая поэтика М. Ибрагимбекова – писателя русскоязычного – интересна в отношении исследования таких концептов как «семья», «братство» на примере повести «И не было лучше брата», где в аспекте экзистенциальных рассматриваются и проблемы, связанные с менталитетом, присущим сугубо азербайджанскому народу.
Следует отметить, что ученые-литературоведы утверждают, что антропологическая поэтика может быть вариативной, она вбирает в себя элементы, присущие как отдельной поэтической школе или направлению, так и тем или иным авторам. С этой точки зрения выбранное в качестве исследования произведение М. Ибрагимбекова как нельзя лучше пред- ставляет возможность показать героя с различных аспектов в особенности в плане национального характера, переданного через русский язык.
Известно, что в антропологической поэтике весомое место уделяется возможностям генерировать антропологические видения человека, которые «предполагают необходимость обсуждения телесности человека, наряду с понятиями психики, сознания, воображения и памяти» [Хатитова; 140].
Интересующие нас концепты «семья», «братство» представляют своего рода визуальный код телесности Джалил-муаллима, главного героя повести «И не было лучше брата». Его миропонимание, особый характер, своего рода опасения, доходящие до «футлярности», представляют для читателя интерес в плане проявления элементарных чувств родства, уважения к старшим, почитания обычаев и традиций, присущих каждой семье в целом, и семье Джалил-муаллима в частности.
Эта вот парадигма, которая с развитием сюжета превращается в моноплан, в моносемью, дают возможность читателю понять, как визуальный код телесности переходит в маниакальную страсть показать, что семья героя – идеал, и никто, даже родной брат Симург, не имеет права нарушать каноны той семьи, которую придумал Джалил-муаллим.
Изменения в жизни общества абсолютно не влияют на мировоззрение Джалил-муаллима. Он старший брат. По его мнению, в семье всё в первую очередь соотносится с братом, который для него больше, чем семья. Концентрация внимания на родстве кровном где-то воспринимаемо читателем, а где-то слишком отстало, потеряло свою актуальность. Для героя повести Ибрагимбекова, дом, разделившийся изнутри, рухнет, даже не почувствовав маломальского дуновения каких-то внешних сил. Писатель мастерски передаёт одну из уважаемых традиций в национальной жизни: достойно прослуживший в армии любой мужчина становился предметом уважительных разговоров. Семья всячески старалась также достойно отметить возвращение сына из армии. Джалил-муаллим, как старший в доме, также делает всё, чтобы соседи и близкие не почувствовали того, что родителей Симурга давно нет в живых. Поэтому Джалил-муаллим «прижал Симурга к груди и долго не отпускал, чувствуя, как захлёстывает его долгожданная радость, ощущая, как заполняется с каждым мгновением объятия образовавшаяся где-то совсем близко под сердцем три года назад пустота: держать в объятиях брата, самого близкого и любимого человека на земле, и словно пил из животворного родника, возвращающего жизнь и удесятеряющего силы» [Ибрагимбеков; 208].
Но М. Ибрагимбеков решает испытать прочность братских уз. Он постоянно использует различие в возрасте, отсюда, и в характерах братьев. Джалил-муаллим «представитель старосемейных отношений», основанных в первую очередь на почитании старших и беспрекословного повиновения их требованиям. Для этого поколения «указанное» старшими во всех отношениях должно быть принято однозначно и без вопросов. Симург же, явно представитель поколения шестидесятников, поколения самого М. Ибрагимбекова. Поколения, впервые представившего обществу свои условия жизни, своё миро- восприятие. Братские узы, по модели Си-мурга, это просто уважение к старшим, в остальном, такие как он, свободны от каких-либо семейных уз. Иноязычие, чем пользуется М. Ибрагимбеков, вовсе не становится преградой для передачи национальных противоречий на разных уровнях: в обществе, в семье, в отношениях конкретных лиц семьи, где вроде бы слово за старшим, а исполнение за остальными.
Ибрагимбеков, изображая бакинцев, на первый взгляд противопоставляет их остальной части азербайджанцев. Такое ощущение, что «неповиновение» Симурга - это единичный случай, присущий только данной бакинской семье. В данном случае концептосфера как совокупность концептов нации на примере «семья» и «братство» как бы оказалась разделенной надвое: концепт бакинцев и концепт остальной части азербайджанцев. Но это на первый взгляд. Ибрагимбеков как раз-таки на примере бакинцев решил показать протест против того, что нарушаются традиции и обычаи народа. Хотя он и представитель поколения Симурга, в нём особо прочно сидят представления старшего поколения, каким является Джалил-муаллим.
Семья по Джалил-муаллиму, - это целый мир, в котором должно уживаться всё. Воспитанный на самых лучших семейных традициях он хочет продолжить их, воспитав своего брата. По-отечески любя своего брата, Джалил-муаллим желает, чтобы и тот представлял для себя семью также. Но Симург, как мы отметили, человек другого поколения. Братство, семейные узы для Симурга означают вовсе не то, что во всём нужно слушаться старших. Где-то разделяя чувства Симурга, а где-то и критикуя их, Максуд Ибрагимбеков как бы ещё раз проверяет на прочность библейское повествование о двух братьях. Итог - несмотря на прошедшие тысячелетия, библейское повествование прочно. Не может быть, чтобы один брат в семье был копией другого. Не может быть, чтобы один брат вполне соответствовал тем требованиям, которые обязательны для другого. Братство, семья, по Симургу, - это возможность иметь близких, понимать, что рядом с тобой единокровный. И всё. Во всём остальном - Симург прямое противопоставление Джалил-муаллиму. Джалил-муаллим больше всего мечтал о том, чтобы Симург получил высшее образование, хотя сам его не имел. Симург такой и желает скорее заработать денег, стать на ноги и не зависеть от желаний старшего брата. Конечно же, М. Ибрагимбеков проводит его через круг неудач и позора. Его стремление сразу стать человеком с набитым карманом, становится мощным моральным ударом по брату. Джалил-муаллим всю жизнь считавший, что только честным трудом и красен человек, не может прийти в себя после того, как в вечерней городской газете был опубликован фельетон, связанный с деятельностью Симурга, его любимого брата. Сколько физических и моральных сил потребовалось Джалил-муаллиму, чтобы раскупить газеты, чтобы как можно мало родственников и знакомых узнали о таком позоре: «Тяжело было Джалил-муаллиму читать фельетон. Очень тяжело. Знал он, что не заслужил такого несчастья, ничем не заслужил. Он почувствовал к себе жалость. Нельзя же бить человека так жестоко и неожиданно, и какого человека, его, Джалил-муаллима, за что?» [Ибрагимбеков; 213].
Этические основы жизни Джалил-муаллима не дают ему возможности как-то понять брата, попытаться посмотреть на мир его глазами. Но если исходить из реалий жизни советского человека 50-70-х годов, то можно понять и то, что движет сознанием Симурга. Проблема существования семьи, которая на протяжении 20-го века претендовала на разные формы, конечно же, не могла не быть предметом изображения в творчестве советских писателей. М. Ибрагимбеков, как и Ч. Айтматов, В. Астафьев, В. Распутин, Анар и многие другие старался поставить семью на обозрение всех с той целью, чтобы идеологические основы общества того времени не становились препятствием для жизни семьи, без каких-либо условностей, без «смешивания» политики и семьи, чему советские идеологи хотели не раз способствовать.
Если рассмотреть позиции М. Ибрагимбекова и Ч. Айтматова в отно- шении семьи, то можно заметить некоторую схожесть. Герои повести «Джамиля», так же, как и Джалил-муаллим, не могут в большинстве своём понять выбор Джамили. Не могут, потому что, как и Джалил-муаллим, считают, что Джамиле надо было найти другого спутника жизни. Они полагают, что Джамиля, сделав выбор и убежав с Данияром, вряд ли будет счастлива «Пропадёт Джамиля ... Эх, какой хозяйкой была бы она в семье! Ушла … Отреклась … А зачем ушла? Или худо ей было у нас ...» [Айтматов; 146] «Ушла - туда ей и дорога. Подохнет где-нибудь ...» [Айтматов; 147] «А её за волосы да к конскому хвосту ...» [Айтматов; 147].
Если обратить внимание на национальное своеобразие жизни азербайджанцев, то можно заметить, что семья всегда была на первом месте. Этнографической составляющей следует считать семью для азербайджанцев. И М. Ибрагимбеков в сложнейших условиях советской действительности обратил внимание читателей, пусть и посредством русского языка, к чему могут привести всякие условности, всякая особенность во взгляде на семью. Ибрагимбеков призывает делать всё ради сохранения семьи, и даже перед лицом смерти его герой, Джалил-муаллим, понимая, что отсчитываются последние минуты его жизни, осознаёт, что именно он своим догматическим взглядом на семейные традиции, отдалил от себя единокровного брата. Джалил-муаллим понял, что обидой, ухмылками он ещё больше отдалялся от своего любимого брата. Понял, что из-за каких-то пустяков чуть не лишился брата. Тогда как только уверениями, открытой беседой, примерами можно было дать понять Симургу, что семья свята, и как бы человек не воспринимал реалии, он должен связывать всё с семьёй, с братом, с родными.
Параллели в этом плане напрашиваются с мыслями о семье, которыми делится великий русский писатель современности В. Астафьев. Отметим, что В. Астафьев и в ранних произведениях уделял семье определенную значимость. А в «Печальном детективе», написанном в середине 80-х годов ХХ века он открыто заявляет, что се- мья, если не броситься спасать её, может вообще потерять своё значение.
Очень интересно то, что М. Ибрагимбеков стремится донести очень жестокую правду: нравственные устои семьи есть нравственные устои общества, в котором мы живём. И если семья – это модус, а по произведению М. Ибрагимбекова это так и есть, то значит развитие общества всецело зависит от того, чтобы сохранить семью как институт.
«И не было лучше брата», как мы отмечали, созвучно по мотиву библейской истории. В ней отец смог убедить Авеля, что Каин – член семьи, пусть на некоторое время и позволил себе забыть об этом. И как бы не было трудно, Авелю приходится понять и простить брата, вновь посчитать его членом семьи. Своего рода эталон прощения. Прощения ради семьи, ради того, чтобы Каин смог остаться человеком. Ведь какая-то сила привела его обратно в дом. Значит в нём сильны традиции семьи. И один его неверный шаг не позволяет нам, читателям, считать его виновным: человеку присуще ошибаться. Но Симург, судя по оценкам и действиям Джалил-муаллима ошибается не раз и не два. Причем то, что он делает вопреки желанию или даже воле Джалил-муаллима, ошибкой тоже нельзя назвать. Симург делает то, что в рамках его мировосприятия. И это, конечно, сильно разнит события из жизни двух братьев – бакинцев с героями библейской истории.
И если говорить о прощении, оно есть и в повести «И не было лучше брата». Но это прощение вовсе не то, что видим мы в библейской истории. Джалил-муаллим прощает Симурга перед лицом смерти. Прощает ради себя. Ведь надо же умереть спокойно, поняв, что и ты простил, и тебя простили. Но изменится ли после этого Симург. Станет ли он действовать в угоду спасения семейных традиций и обычаев? Станет ли отметать те маленькие грешки детства, с которыми никак не мог справиться Джалил-муаллим? Ибрагимбеков просит читателей самим ответить на эти вопросы. И то, что писатель «оставляет» читателя с таким грузом проблем и вопросов – хорошо. Человек должен сам понять, в чём основы семьи, сам должен понять своё место и роль в семье.
Этические и эстетические составляющие антропологической поэтики – это своего рода индикатор, определяющий роль семьи в становлении человека как личности.
И тут не важно, на каком языке создано то или иное произведение. Национальные мотивы поведения себя в отношении семьи не имеют никаких языковых барьеров. Наоборот, национальное посредством ино-языка становится общедоступным, узнаваемым и значимым в общечеловеческом масштабе.
Список литературы Концепт «семья» как основа антропологической поэтики (на материале повести М. Ибрагимбекова «И не было лучше брата»)
- Айтматов Ч. Повести. - М., 1979.
- Астафьев В.П. Печальный детектив. - М., 1987.
- Ханинова Р.М. Об антропологической поэтике русской прозы 1920-х гг. // Вестник КИГИ РАН. - 2011. - №2.
- Ибрагимбеков М. И не было лучше брата // В сборнике "История с благополучным концом". - Баку, 1983.