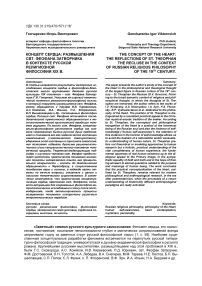Концепт сердца: размышления свт. Феофана Затворника в контексте русской религиозной философии XIX в
Автор: Гончаренко Игорь Викторович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье излагаются результаты авторского исследования концепта сердца в философско-богословской мысли крупнейшего деятеля русской культуры XIX столетия - свт. Феофана Затворника (Г.В. Говорова). Указывая на широкий семантический контекст религиозно-философской мысли, в который погружены размышления свт. Феофана, автор обращается к трудам И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, И.А. Ильина, П.А. Флоренского, Б.П. Вышеславцева и др., посвященных философии сердца. Позиция свт. Феофана отличается последовательной практической обращенностью к мистико-аскетической христианской традиции человека ищущего. По мысли свт. Феофана, концептуально-философское распознание сердца как символа сокровенного бытия русской души предполагает и понимание его как символической инстанции самопознания («человеческого самочувствия»); удержание этой инстанции в горизонте самопознания позволяет избегать дуализма рационалистического и/или сенсуалистического понимания человеческой природы. Теоретико-моделирующим подходам к изучению человека свт. Феофан предпочитает целостное, практическое понимание жизненной полноты человеческого опыта, его принципиальной открытости - вплоть до диалогической обращенности к Первообразу, в сочувственном тождестве веры и истины, в надежде найти ответы на вечные вопросы, связанные с целью и смыслом человеческого существования. В заключение отмечается, что практическая концептуализация сердца, намеченная свт. Феофаном, остается актуальной для современных философско-антропологических исследований в эпоху после постмодернизма, когда активизировались процессы возвратного понимания исторически различных антропологических
Русская религиозная философия, философия сердца, человеческое самочувствие, сердечное созерцание, мистика, личность
Короткий адрес: https://sciup.org/149134777
IDR: 149134777 | УДК: 130.31:215(470+571)“18” | DOI: 10.24158/fik.2020.4.8
Текст научной статьи Концепт сердца: размышления свт. Феофана Затворника в контексте русской религиозной философии XIX в
В более ранних размышлениях И.В. Киреевского и А.С. Хомякова уясняется целостный характер русского «сердечного» мышления как сердечно осмысливаемого поступка. Русский человек, по И.В. Киреевскому, «каждое важное и неважное дело свое всегда связывал непосредственно с высшим понятием ума и с глубочайшим средоточием сердца» [8, с. 283]; таким образом реализуется стремление русского человека к «внутреннему живому» [9, с. 289] – истине самосознания, обретаемой «посредством внутреннего возвышения самосознания к сердечной цельности и средоточению разума» [10, с. 288–289]. При этом у А.С. Хомякова, отчетливым образом сохраняющего свою христианскую идентичность, сердце – это прежде всего орган уразумения истины и правды веры: «Чует сердце внутренним смыслом правды и благородством прирожденным душе всякого человека, а доводы разума только подкрепляют это непосредственное чувство» [11, с. 100]. Рассудок человека – это своего рода «трость, качаемая ветром» – явление недостаточно твердое, не наполненное решимостью отстаивать истину и потому часто покоряющееся «власти неверия», когда пытается справиться с «явными противоречиями ваших верований» [12, с. 226]; – власти, от которой «отбивается ваше сердце и которой, против вашей воли, часто подчиняется ваш рассудок» [13, с. 226].
Согласно Б.П. Вышеславцеву, систематизировавшему онтологическую семантику философии сердца в России, сердце – «предельный таинственный центр личности, где лежит вся ее ценность и вся ее вечность» [14, с. 63]. Н.О. Лосский отметил, что термин «сердце» у Б.П. Вышеславцева не сводится к способностям восприятия внешнего миропонимания, его место «гораздо более значительное – именно то онтологическое сверхрациональное начало, которое есть истинная самость личности» [15, с. 106].
Наиболее обстоятельное исследование мистического аспекта философии сердца было предложено о. П. Флоренским в связи с этносоциальными и историко-культурными исследованиями, символическими моментами физической антропологии (отношением живота, сердца, головы). В рассмотрении «оргиастических культов древности» [16, с. 267] и отчасти в католицизме П. Флоренский распознает культ мистики живота, локализующего целостность человеческого существования, и подобный ему культ мистики головы (как у йогов, теософов, оккультистов и др.);
такая локализация – сведение человеческого самопонимания к мистике частичного, по П. Флоренскому, является ложной, поскольку «необходимо увеличивает и без того нарушенное равновесие жизни и в конец извращает естество греховного человека» [17, с. 267]. Подлинная, практическая сердечная сосредоточенность – это мистика сведения ума в сердце, очищение сердца от страстей и всякого рода зла, «мистика средоточия человеческого существа» [18, с. 267]. Согласно П. Флоренскому, одна только христианская мистика способна правильно восстанавливать человеческую личность, ибо «дает ей возрастать от меры в меру» [19, с. 267]. В средоточии человеческого существа оказывается не «головное» я или безличное нечто, а некоторая – отнюдь не частичная! – общная, конкретно-личностная и сердечно-сочувственная открытость Другому в себе. Это вполне соответствует восточной традиции, православной установке философски подвижнического мышления, направленной за пределы тварного, которая ни в коем случае не мыслится как основание для растворения части в целом высшего бытия или обособленного в нем, неделимо-элементарного, индивидуального существования. Это ситуация сорастворения в Другом – Богообщения как центрального события восточной жизненной практики самопознания и самовоспитания, в процессе которых происходит личностная трансформация, фаворское высветление человеческого существа (Мф. 17:2), в сердечном-диалогическом сосредоточении встречающегося с Богом. Богообщение раскрывает в человеке новые качества и горизонты сердечного самопонимания – в зеркале совместной заботы о Другом.
Практическая философия сердца: смысловые ориентации свт. Феофана Затворника . Свт. Феофан Затворник (в миру – Георгий Васильевич Говоров) – уникальный представитель русского религиозно-философского энциклопедизма и, весьма обстоятельным образом, традиции восточного мистико-христианского дискурса XIX столетия. Он уделяет пристальное внимание осмыслению сердечно-символического начала христианского мышления, делает его областью мысленных экспериментов по сличению разных подходов к онтологической семантике христианской философии, стремится к практическому, деятельному его пониманию.
В исследованиях свт. Феофана сердце является своего рода высшей инстанцией человеческого самочувствия, всех процессов, которые так или иначе происходят в человеке: «Оно чувствует постоянно и неотступно состояние души и тела , а при этом и разнообразные впечатления от частных действий душевных и телесных, от окружающих и встречаемых предметов, от внешнего положения и вообще от течения жизни» [20, с. 30]. Это сердечное самочувствие имеет своим пределом сочувствие религиозное; религиозная жизнь только тогда и становится для человека значимой, когда оказывается напрямую связана с его сердцем. Сосредоточенное в себе, «головное», как сказал позже о. П. Флоренский, размышление о некоей теоретически усматриваемой или исторически предполагаемой абсолютной границе человеческого существования, вера в божество как истину этой границы, не является истинной во всецелом, человеческом смысле слова истиной, обретающей смысловой статус в познавательной деятельности человека целостного.
Преимущественно интеллектуальное, «умовое» или, напротив, сугубо чувственное «нащупывание» абсолютной границы человеческого существования не есть, согласно свт. Феофану, истина сущего в человеке – деятельного, пришедшего в органическое тождество с собою знания бытия и доверия к нему. За двойственностью умового и чувственного самопонимания скрывается слепая вера в некоторое «что» сущего. Истина веры зрячей предполагает не умозрительно-чувственное удвоение или двоякое субстанциальное ограничение Сущего, а встречу человека с высшим и, координатным образом, с собою на предельной глубине своего практического существования, встречу-благо, благодатное и благодарное общение с таинственно-троически Сущим и непотаенным от желающего встречи с Ним Христом. Христианин, в понимании свт. Феофана, должен учиться «питать к Нему благодарные чувства, с готовностью посвящать всю жизнь свою» [21, с. 131]. Сердце – это единый духовно-душевный орган, в котором только и могут родиться и жить богоугодные чувства и расположения души; истинная вера «выражает религию сердца» [22, с. 131] и познавательно символична.
Согласно свт. Феофану, искажения в религиозной жизни начинаются с чувственного охлаждения. Русский мыслитель при этом исходит из жизни возникшей и развивающейся и поэтому представляет сочувственное начало философии сердца в обратной перспективе, движется не от способности сосредоточения в своем другом, а от забвения онтологического, мистически светлого, «святого» сочувствия Божеству: «Охлаждаются и религиозные чувства к Богу, и страх Божий испаряется» [23, с. 131]. Мышление, простирающееся разрешить тайну бытия Божественного, но оставленное при этом соучастия сердечного, оказывается не способным к религиозно-философскому, целостному познанию. Религиозное познание органическим единством связано с внутренним соединением человеческого существа с Непостижимым Божественным. Стало быть, если в процессе познания участвует только интеллект, только мышление, Бог принимается внешним по отношению к познающему – как некоторый бесстрастный и безличный объект по отношению к обезличивающему себя в абстрактно-одностороннем познавательном усилии субъекту. С почти афористической яркостью свт. Феофан замечает, что в этом случае «Бог превращается в нечто мысленное и перестает заправлять всеми внутренними движениями человека» [24, с. 131].
В понимании свт. Феофана значение сердца раскрывается не только в определенного рода переживаниях – не в том лишь, «чтоб страдательно состоять над впечатлениями» [25, с. 31]. Сердце у свт. Феофана – это источник энергии, жизненный центр, двигатель, приводящий в движение все жизненные силы человека (и духовные, и душевные, и соматические). Когда человеку какое-то дело приходится «по сердцу», оно идет гораздо быстрее: «Смотрите, как спешно делается дело, которое нравится, к которому лежит сердце!» [26, с. 32]. Напротив, намного медленнее исполняется дело, «к которому не лежит сердце» [27, с. 32], «руки опускаются и ноги не двигаются» [28, с. 32]. Из этого свт. Феофан заключает: «Ревность – движущая сила воли – из сердца исходит» [29, с. 32].
Русская философия сердца, ее прообразы в христианской философско-богословской традиции занимают и современных исследователей (С.С. Хоружего, Г.Я. Стрельцову, Ю.М. Зенько, С.В. Поздневу, Г.В. Ширяеву, Г.Н. Скляревскую и др.). Между тем смысловые контуры понимания сердца как деятельного условия религиозно-философского знания, намеченные свт. Феофаном Затворником, остаются актуальными для сегодняшних историко-философских и философско-антропологических исследований. Тем самым уточняются не только конкретный историзм «духовной жизни человека, по учению Слова Божия» [30], как это представлялось современникам свт. Феофана, но и онтологический горизонт современных исканий человеческой природы в «после-историческую», или постмодернистскую, эпоху обращения к началам различных антропологических парадигм.
Ссылки:
-
1. Гаврюшин Н.К. Б.П. Вышеславцев и его «философия сердца» // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 55–62.
-
2. Ильин И.А. Путь к очевидности. Мюнхен, 1957. 155 с.
-
3. Ильин И.А. О русской идеи // Собрание сочинений. В 10 т. Т. 2. Кн. I. М., 1993. 497 с.
-
4. Там же. С.420.
-
5. Там же. С.420.
-
6. Там же. С.426.
-
7. Там же. С.420.
-
8. Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. 439 с.
-
9. Там же. С.289.
-
10. Там же. С. 288–289.
-
11. Хомяков А.С. По поводу брошюры г-на Лоранси // Сочинения богословские. СПб., 1995. С. 59–105.
-
12. Хомяков А.С. По поводу разных сочинений Латинских и Протестантских о предметах веры // Там же. С. 165–228.
-
13. Там же. 226.
-
14. Вышеславцев Б.П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 62–87.
-
15. Лосский Н.О. Б.П. Вышеславцев. Сердце в христианской и индийской мистике // Путь. 1931. № 28. С. 106–107.
-
16. Флоренский П.А. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 1. Столп и утверждение истины. Ч. 1. 490 с.
-
17. Там же. С. 267.
-
18. Там же. С. 267.
-
19. Там же. С. 267.
-
20. Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Собрание писем. М., 2009. 336 с.
-
21. Феофан Затворник, святитель. Толкование послания апостола Павла к римлянам. Гл. 1–8. М., 2006. 744с.
-
22. Там же. С.131.
-
23. Там же. С.131.
-
24. Там же. С.131.
-
25. Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь … С. 31.
-
26. Там же. С.32.
-
27. Там же. С.32.
-
28. Там же. С.32.
-
29. Там же. С.32.
-
30. Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению Слова Божия // Труды Киевской духовной академии. 1860. Ч. 1. С. 62–118.
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Бирюкова Полина Сергеевна
Список литературы Концепт сердца: размышления свт. Феофана Затворника в контексте русской религиозной философии XIX в
- Гаврюшин Н.К. Б.П. Вышеславцев и его "философия сердца" // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 55-62
- Ильин И.А. Путь к очевидности. Мюнхен, 1957. 155 с
- Ильин И.А. О русской идеи // Собрание сочинений. В 10 т. Т. 2. Кн. I. М., 1993. 497 с
- Ильин И.А. О русской идеи // Собрание сочинений. В 10 т. Т. 2. Кн. I. М., 1993. С. 420.
- Ильин И.А. О русской идеи // Собрание сочинений. В 10 т. Т. 2. Кн. I. М., 1993. С. 420.