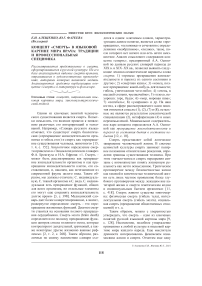Концепт "смерть" в языковой картине мира врача: традиции и профессиональная специфика
Автор: Алещенко Елена Ивановна, Фатеева Юлия Геннадиевна
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 (157), 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается представление о смерти, сформировавшееся в русской культуре. На его базе анализируется видение смерти врачами, отразившееся в художественных произведениях, авторами которых являются медики. Анализируются средства вербализации концепта «смерть» в литературе и фольклоре.
Концепт, национальная языковая картина мира, лингвокультурологический подход
Короткий адрес: https://sciup.org/148322288
IDR: 148322288
Текст научной статьи Концепт "смерть" в языковой картине мира врача: традиции и профессиональная специфика
Одним из ключевых понятий человеческого существования является смерть. Попытки осмыслить это явление привели к появлению различных его интерпретаций и толкований. Например, «Словарь русского языка» отмечает, что существует смерть биологическая («прекращение жизнедеятельности организма и гибель его») и смерть как «прекращение существования человека, животного» [15, т. 4, с. 152]. Аналогичное определение смерти приведено в «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «1. Смерть – может быть рассматриваема как прекращение жизнедеятельности организма и как прекращение жизнедеятельности клеток, его составляющих, и, наконец, как исчезновение из современной фауны целого вида. Таким образом, мы должны отличать: С. индивидуальную, С. тканей организма и С. вида. С. индивидуальная есть прекращение функций, общих для всего организма, но отдельные элементы его могут еще сохранять жизнедеятельность долгое время» [3, с. 398]. Медицинский словарь дает более конкретизированное, а значит, развернутое определение: смерть – это «прекращение жизненных функций. Диагноз смерти ставится на основании полного прекращения сердцебиения. Смерть мозга (brain death) определяется по полному прекращению функции центров ствола головного мозга, которые контролируют дыхательный, зрачковый, а также некоторые другие жизненно важные рефлексы» [2, т. 2, с. 268]. Таким образом, различные по своему назначению словари схо- дятся в одном: ключевым словом, характеризующим данное понятие, является слово «прекращение», «остановка» в сочетании с определениями «необратимое», «полное», такое, после которого нет ничего или есть нечто неизвестное. Анализ смыслового содержания концепта «смерть», предпринятый А.А. Осиповой по данным русских словарей периода до XIX в. и XIX–XX вв., позволил выявить следующие лексико-семантические варианты слова смерть: 1) «процесс прекращения жизнедеятельности и переход из одного состояния в другое»; 2) «смертная казнь»; 3) «конец, полное прекращение какой-нибудь деятельности; гибель, уничтожение чего-либо»; 4) «очень, в высшей степени, чрезвычайно»; 5) «плохо, нехорошо; горе, беда»; 6) «мор, моровая язва»; 7) «погибель»; 8) «умирание» и др. На наш взгляд, к сфере рассматриваемого нами понятия относятся смыслы (1), (2), (7) и (8), остальные же являются результатом семантической специализации (2), метафоризации (4) и иных переосмыслений. Минимальное содержательное ядро концепта определяется А.А. Осиповой как прекращение жизнедеятельности и переход из состояния бытия в состояние небытия [12, с. 10].
Смерть представляет собой логическое завершение человеческой жизни. В системе ценностей культуры смерть занимает полярное положение относительно рождения, определяя границы существования человека. При этом «начало-конец и смерть неразрывно связаны с возможностью понять жизненную реальность как нечто осмысленное. Трагическое противоречие между бесконечностью жизни как таковой и конечностью человеческой жизни есть лишь частное проявление более глубокого противоречия между лежащим вне категорий жизни и смерти генетическим кодом и индивидуальным бытием организма» [11, с. 418]. Смерть живого существа многомерна: физическая смерть (гибель тела), интеллектуальная смерть (гибель мозга), социальная смерть (прекращение общественных отношений) и т. д.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что смерть – одно из ключевых понятий русской языковой картины мира [9, с. 128]. Несомненно, подобное утверждение применимо к любой культуре и языковой картине мира каждого народа. Еще мыслители древности интересовались феноменом взаимосвязи жизни и смерти. Отметим еще одну
особенность восприятия смерти: «В сознании современного индивида смерть перестает принадлежать естественному порядку вещей, воспринимается как своего рода “агрессия” извне, которая не зависит от самого человека и которую совершенная медицина, способная победить болезни, и совершенное общество, способное уничтожить войны и преступность, лишат права на существование» [21]. Итак, в сознании человека смерть таинственна и враждебна по отношению к нему, эта таинственность вызывает страх, именно этим объясняются табуированность феномена смерти и эв-фемизация как ведущий прием его вербализации. Существование множества эвфемистических обозначений смерти объясняется особым отношением к слову древнего человека, который полагал, что все произнесенное может стать реальностью. Отсюда запрет «именования» смерти, своеобразная защита от ее призыва. Такое отношение типично для человеческого сознания, ведь, «избегая аналитического и вдумчивого разговора о смерти, публичный дискурс впитывает как губка любые упоминания о трагических исходах как событиях, притягивающих внимание и увлекающих аудиторию. О смерти не хочется говорить, но невозможно и пройти мимо, не остановившись и не вглядываясь украдкой в произошедшее» [13, с. 109].
Закономерными представляются попытки образной интерпретации смерти и ее противоположности – жизни, например через метафору пути, усиленную фигурой буквализации, ср.: «Смерть тише рождения. Может, поэтому нам кажется, что она и сильнее рождения? <…> Иногда думается, что жизнь – это этап . Причем в буквальном смысле – для кого всего лишь Москва – Наро-Фоминск , а для кого и в кандалах пешим ходом до бескрайних просторов Сибири . Мы не помним своего рождения. Мы не будем помнить своей смерти» [17, с. 6]. Образы смерти могут быть сгруппированы в две системы:
-
1. Метафорические мотивационные системы, в частности:
-
1.1. Смерть как конец жизненного пути.
-
1.2. Смерть как сон.
-
1.3. Смерть как антропоморфное существо (приходящее к человеку, уводящее его за собой и т. д.).
-
1.4. Смерть в виде животного, птицы.
-
1.5. Смерть как угасание огня.
-
1.6. Смерть как переход (в мир иной, в рай, ад, Гадес и др.).
-
1.7. Смерть человека как смерть растения.
-
1.7. Смерть человека как смерть животного.
-
-
2. Метонимические мотивационные системы, в частности:
-
2.1. Остановка дыхания → смерть.
-
2.2. Остановка сердцебиения → смерть.
-
2.3. Приобщение к типовым атрибутам смерти (каковыми являются морг, гроб, могила, кладбище и т. д.).
-
В различных типах дискурса смерть может быть представлена в образе животного или птицы [10, с. 386–388], однако гораздо чаще смерть предстает как антропоморфное существо (см. мотивационный ряд 1.3), здесь можно выделить несколько ключевых топосов: описание внешности, места постоянного обитания, деятельности. Так, в славянской мифологии смерть чаще всего – это старая женщина с большими зубами, костлявыми руками и ногами, с провалившимся носом, в белом саване, с заступом, граблями, пилой и косой за плечами. Инструменты нужны ей не столько для устрашения, сколько для «профессиональной» деятельности: так, пилой она отпиливает умирающему человеку руки и ноги, а косой отделяет от тела голову.
По другим версиям, коса смерти обработана ядом, и смерть человека вызывается попаданием на него одной из ядовитых капель. В русской народной сказке «Солдат и смерть» говорится: «Вдруг повстречалась с ним старуха, такая худая да страшная, несет полную котомочку ножей, да пил, да разных топориков, а косой подпирается» [14, с. 446]. В западноевропейской традиции наиболее распространенным изображением смерти является существо в черном плаще с капюшоном и с косой в руках. По мнению историков, такая визуальная форма смерти появилась после вспышки чумы в Германии в XIV в. [5]. В изобразительном искусстве смерть с косой впервые появилась в работах Дюрера в 1513 г. на гравюре «Рыцарь, смерть и дьявол». С тех пор коса стала обязательным атрибутом смерти, своеобразным отличительным знаком [Там же].
Примечательно, что образ Смерти в произведениях современных писателей опирается не только на славянские традиции, но и мировые. Например, А. Ульянов, автор «Записок санитара морга», так описывает этот персонаж:
На пороге отделения стояла худощавая поджарая старушка, невысокая, с коротко остриженными кудрявыми волосами, выкрашенными в ядовиторыжий цвет, не встречающийся в естественной природе. Ее выразительное скуластое лицо, с большим высоким лбом и огромными, совсем молодыми черными глазами, притягивало к себе взгляд. Одета она была в фиолетовую потрепанную вязаную кофту и длинную цветастую юбку, из-под которой виднелись черно-белые, видавшие виды, кеды. Пальцы ее правой руки, которой она упиралась на красный старомодный зонт, были унизаны множеством перстней с крупными разноцветными камнями. В левой она сжимала измятую потухшую папиросу, воняющую дешевым куревом [18, с. 236].
Перед читателем предстает странный, но не пугающий персонаж, такое воплощение Смерти вызывает скорее улыбку и отчасти заинтересованность, чем чувство страха. Примечательно, что облик смерти в произведении А. Ульянова включает некоторые элементы традиционной культуры: «худощавая поджарая старушка» как вариант костлявости, характерной для славянского образа Смерти; «выразительное скуластое лицо, с большим высоким лбом» как аналог черепа; «красный старомодный зонт», отдаленно напоминающий окровавленную косу; «фиолетовая потрепанная вязаная кофта и длинная цветастая юбка» заменяют традиционный белый или черный балахон. Полагаем, что цветовой диапазон одежды посетительницы морга «продиктован» спецификой работы автора: белое и черное в медицине встречается редко, но фиолетовый и многие другие цвета являются признаком нездоровья и распада (гангрена, процесс нагноения и т. д.). Отчасти укладывается в традиционное представление и обувь Смерти: «черно-белые, видавшие виды, кеды» представляют собой аналог босых ног скелета, где кости белые, а отсутствие плоти – черная пустота. «Молодые черные глаза, притягивающие к себе взгляд» также отсылают читателя к традиционному образу смерти: пустые глазницы черепа наполнены тьмой, в некоторых верованиях существует запрет на прямой взгляд в глаза смерти (путешествие Инанны, героини шумерских мифов, в «страну, откуда нет возврата», обращающий в камень взгляд горгоны Медузы, смертоносный взор Вия и т. д.). Примечательно, что и многочисленные кольца связаны со Смертью: полагаем, они символизируют вдовство, т. к. многие люди после потери спутника жизни продолжают носить обручальное кольцо, перемещая его с правой руки на левую. Остальные детали (цвет волос, папироса и пр.) приземляют образ мифологического существа. Возможно, это объясняется тем, что герой, сталкивающийся со смертью каждый день, утратил остроту ее восприятия. Похожее изображение смерти видим в фантасти- ческом романе Д. Емеца, жанр которого обозначен как «хулиганское фэнтези»:
Наружная дверь скрипнула. В приемную, что-то бубня себе под нос, вошла старушенция. На плече у нее болтался здоровенный, видавший виды рюкзак, в который можно было упрятать целую дивизию. В руке она держала зачехленную косу…
– …Давай, что ль, знакомы будем! Я Аида Пла-ховна Мамзелькина . У тебя визитка есть?
– Нету, – сказал Мефодий.
Старушенция похлопала себя по карманам. В одном кармане звякнула бутылка, из другого выкатилась автоматная пуля.
– Плохо работаешь, друг Мефодий! И у меня, представляешь, нету. Все раздала . Дура я, труха могильная… Несла тут с утречка одного – мы с ним все визитками менялись. Он мне – я ему. Так без визиток и осталась. Прикольный мужик, вот только с друзьями не повезло. Товаришчи из другого коллектива в его «мерс» бомбу подложили. Он дорогой все интересовался: какая отсидка во мраке будет, кто бугор и что хавать дают.
Мефодий с тревогой покосился на косу.
– Вы… вы Смерть ? – спросил он.
– Есть маленько! Нынче, чтоб народец шибко не пугался, я по-другому называюсь. «Старшой ме-нагер некроотдела»! – с удовольствием выговорила Аида Плаховна [7, с. 206].
Описание Смерти здесь подчеркнуто снижено, хотя и традиционно. Перед читателями предстает бомжеватого вида старушка, которая любит выпить медовухи, внешне простоватая и гордящаяся остро современным именованием ее должности. Однако в других эпизодах у нее «прорезается» острый взгляд, которым она награждает собеседника, предупреждая, что ее косу трогать не нужно, т. к. она у нее «без воображения». При этом Аида Пла-ховна (по имени-отчеству которой можно многое понять) недвусмысленно предупреждает, что она может легко ошибиться с кандидатом на уход из жизни, а отчетность затем подправить. Таким образом, наблюдается сплав противоречивых представлений о смерти как антропоморфного существа: с одной стороны, ее боятся, с ней стараются быть осторожны, воспринимая как коварного врага; с другой – над ней пытаются посмеяться (например, в бурлескных интерпретациях данного образа).
Отметим, что в традиционных культурах существуют сюжеты, в которых герой вступает в единоборство со смертью. Так, в русской народной сказке «Солдат и смерть» герой сначала пытается с ней договориться:
Вот шел и шел он так долгонько… Вдруг повстречалась с ним старуха, такая худая да страш- ная, несет полную котомочку ножей, да пил, да разных топориков, а косой подпирается… Смерть (это была она) и говорит:
– Я послана господом взять у тебя душу!
Герой начинает просить отсрочки: три года, потом три месяца, три недели, три дня, но все бесполезно: – Не дам тебе и на три минуты, – сказала смерть, махнула косой и уморила солдата [14, с. 447]. Однако в русских сказках отчетливо выражена мысль о том, что со смертью можно бороться, причем довольно успешно: ловкий герой частенько одерживает над нею верх, как и в данной сказке. Героиня венгерской сказки «Старуха и смерть», которая также хочет всеми силами отсрочить день своей кончины, вначале пытается просто договориться со Смертью:
Но однажды Смерть вывела на дверях мелком и старухино имя и постучалась к старухе, чтобы забрать ее с собой. А старухе невмоготу было расстаться с хозяйством, и стала она Смерть просить-умолять, чтобы еще хоть сколько-нибудь не трогала, дала бы ей Смерть хоть немного, если уж не с десяток лет, то хотя бы годик еще пожить. Смерть никак не соглашалась. А потом все-таки расщедрилась:
– Ладно уж, дам тебе три часа.
– Куда ж так мало, – взмолилась старуха. – Ты меня хоть нынче не трогай, завтра забери с собой.
– И не проси! – сказала Смерть.
– А все-таки!
– Никак нельзя.
– Да полно!
– Ладно, – сказала Смерть. – Коли так просишь, пусть будет по-твоему.
А старуха обрадовалась, но виду не подает и говорит:
– Еще о чем я хотела тебя попросить… Ты вот напиши на дверях, что до завтра не придешь. Тогда, как увижу твою руку на двери, спокойнее буду.
Надоели Смерти старухины причуды, да и времени не хотелось зря терять. Вытащила она мелок из кармана да на дверях им написала: «Завтра».
И пошла по своим делам [8, с. 446].
Впоследствии, ссылаясь на эту надпись, старухе удается убедить Смерть в том, что она должна прийти позже. А когда той надоедает ждать и она стирает надпись, старухе удается напугать Смерть так, что та в страхе убежала прочь из старухиного дома; кто его знает, может быть, и до сих пор не приходила за старухой [Там же]. Смерть как некое существо, с которым можно бороться и даже вступать в переговоры, встречаем в произведении Т. Соломатиной. При этом для автора смерть не столько враг, противник, сколько то, что расставляет приоритеты и дает возможность примирения с реальными соперниками, наполняет жизнь яркими красками:
…с анестезиологом… хохочете и хлопаете друг друга по плечам, хотя не очень-то симпатизируете друг другу. Но буквально только что – полчаса назад – вы спасли Жизнь. Вернее, уговорили Смерть не торопиться. Убедили ее в том, что вызов – ложный и даже заплатили неустойку. Кусочком своей Жизни. Своих жизней. И так глупы и мелки становятся ваши сиюминутные дрязги, ваши гневные обвинения на пятиминутках в адрес друг друга [16, с. 36].
Здесь традиционное противопоставление Жизни и Смерти влияет и на определение результатов профессиональной деятельности медицинских работников: не столько «спасли жизнь», сколько «уговорили Смерть не торопиться», тем самым лишь отсрочив неизбежное. Тесная связь Смерти и Жизни проявляется и в некоторых описаниях жилища Смерти.
В разных культурных традициях по-разному описываются пристанище и деятельность смерти. Так, в славянских сказаниях смерть обитает в подземном мире, у нее есть большой собственный дом, где горит несметное количество свечей (см. мотивационный ряд 1.5), каждая из которых – чья-то жизнь. У тех, чья жизнь только началась, свечи едва обгорели, у тех, кто находится в середине жизненного пути, свечи сгорели наполовину, у тех, кто должен скоро умереть, остались одни еле теплящиеся огарки. Как только свеча гаснет, человек умирает. Смерть убирает догоревшую свечу, а на ее место ставит новую – для только что рожденного человека [10, с. 386]. В сказке Андерсена «История одной матери» Смерть называет себя «садовником Бога» (см. мотивационный ряд 1.7), исполнителем его воли:
«Я… беру его цветы и деревья и пересаживаю их в великий райский сад, в неведомую страну, но как они там растут, что делается в том саду – об этом я не смею сказать тебе!». И действительно, Смерть здесь не зажигает свечи, она «приглядывает» за растениями. «Потом она вошла в огромную теплицу Смерти, где росли вперемежку цветы и деревья; здесь цвели под стеклянными колпаками нежные гиацинты, там росли большие, пышные пионы, тут – водяные растения, одни свежие и здоровые, другие – полузачахшие, обвитые водяными змеями, стиснутые клещами черных раков. Были здесь и великолепные пальмы, и дубы, и платаны; росли и петрушка, и душистый тмин. У каждого дерева, у каждого цветка было свое имя; каждый цветок, каждое деревцо были человеческою жизнью, а сами-то люди были разбросаны по всему свету: кто жил в Китае, кто в Гренландии, кто где. Попадались тут и большие деревья, росшие в маленьких горшках; им было страшно тесно, и горшки чуть-чуть не лопались; зато было много и маленьких, жалких цветочков, росших в черноземе и обложенных мхом, за ними, как видно, заботливо ухаживали, лелеяли их. Несчастная мать наклонялась ко всякому, даже самому маленькому, цветочку, прислушиваясь к биению его сердечка, и среди миллионов узнала сердце своего ребенка! [1, с. 118].
Описание места постоянного обитания и/ или отдыха смерти в произведениях врачей несколько отличается от традиционного. Описания места постоянного обитания в анализируемых произведениях врачей не встречается. Смерть в медицине вездесуща, она всегда рядом и нигде. Полагаем, это объясняется тем, что встреча со смертью представляет собой некоторое пограничное состояние, отличительная особенность которого «состоит в том, что каждая ее точка принадлежит одновременно двум разделяемым сферам, а она сама из разделяющей превращается в разделяюще-объединяющую, в медиатора. Пребывание на такой границе носит характер амбивалентного состояния “присутствия-отсутствия”, “реально-ирреального”, “чужого-своего”, “двойного бытия” и т. п. <…> Эти промежуточные состояния часто возводятся в ранг единственного состояния мира, они не предполагают “перехода” (см. мотивационный ряд 1.6) к состояниям четким и определенным. Они – не переход в равно реальное, а зона, которая позволяет соприкоснуться с “вечностью”, с “запредельным”» [20, с. 275]. Потому, полагаем, эмоциональная дистанци-рованность героя-врача вызвана описанным состоянием одновременного «присутствия-отсутствия», а зона «соприкосновения с вечным и запредельным» объясняется вне/всевремен-ным и вне/всепространственным определением смерти в языковой картине мира медицинских работников.
Герой А. Ульянова утверждает, что смерть ничего не знает о нормированном рабочем дне, о тридцати календарных днях отпуска и выходных. Да и на государственные праздники ей совершенно наплевать. И уж если она заявится с визитом, в компании парочки своих, еще теплых, неофитов – кто-то из живых должен ее радушно встретить [18, с. 57]. Включенность смерти в цикл работы государственной машины, но уже в более реальном метонимическом образе (см. мотивационный ряд 2.3), что, впрочем, вполне отвечает типовым представлениям о враче, находим и в произведении А. Бурова:
Два разнополых гоблина бродили по квартире и удивлялись: – Вроде вчера встретили Новый год вместе, ну посидели, легли спать, да, как обычно, часов в восемь вечера, все живы были. А утром встали, они за столом сидят, не ложились, что ли? Пришлось врачу «Скорой» заполнять восемь карт вызова и восемь направлений в морг . Демографическая коррекция в городе была проведена с блеском [4, с. 32–33].
Целям эвфемизации могут служить: 1) персонификация смерти, ср.: …за плечом у тебя стоит смерть и неторопливо ждет, пока тебе наскучит эта битва за жизнь… или пока ей наскучит смотреть… [22, с. 75]. В славянской культуре «посещение Смерти не всегда означает кончину человека – если Смерть, придя к больному, стоит у него в ногах, он выздоровеет, если в головах – умрет» [10, с. 295]; 2) типовой образ потери (ср. мед. потерять пациента ) и как вариант ‒ «отпускания», ср.: Ты врач. Ты печатаешься в Европе, делаешь хорошие операции. Но запомни на всю оставшуюся жизнь: ты будешь их оперировать, а они будут умирать. Ты будешь все делать правильно, а они будут кровить. Ты назначишь все правильно, по протоколам, а они не среагируют на твое лечение. В одном случае из тысячи ты ничего не сможешь сделать. Учись отпускать их [6, с. 70].
Отметим, что деятельность смерти в художественных произведениях медицинских работников часто описывается с помощью анатомической детализации (т. е. метонимически, см. мотивационную систему 2), например: 1) патологического процесса ( Оно (кровотечение. – Е.А., Ю.Ф. ) всегда пытается унести чью-то жизнь, а мы всегда против [22, с. 72]; 2) агонии ( Агония – не самое приятное зрелище. Агония молоденькой девчушки мучительна и не похожа на заслуженное увядание старости, где смерть не приговор, но лишь закономерный результат. Тело не хочет умирать никогда, как бы того ни желал сам человек и что бы он для этого ни делал [16, с. 91]).
В заключение отметим, что размышления о смерти так или иначе встречаются в культуре каждого народа, в творчестве каждого писателя, и все авторы находят свои слова для описания этого этапа жизни. При этом отношение к смерти, бесспорно, базируется на культурных и религиозных традициях, потому что «смерть не может рассматриваться вне религиозного контекста. И отрицание этого факта грозит колоссальными заблуждениями, редукцией смерти до факта биографии, социальной проблемы…» [13, с. 116]. Однако эти уста- новки корректируются жизненным и профессиональным (в нашем случае – врачебным) опытом, имеют отношение к формированию личности, становятся ее частью. Как показано выше, любой из практически необозримого числа образов смерти может найти место в смоделированной нами мотивационной системе, полное описание которой в специальной литературе пока что, к сожалению, отсутствует.
Список литературы Концепт "смерть" в языковой картине мира врача: традиции и профессиональная специфика
- Андерсен Г.-Х. Сказки и истории: в 2 т. М., 1992. Т. 2.
- Большой толковый медицинский словарь: в 2 т. М., 2001.
- Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь: современная версия. М., 2003.
- Булгаров В.С., Ляшенко И.В. Образ смерти в западноевропейском искусстве XIV-XVI веках [Электронный ресурс] // Universum: Филология и искусствоведение. 2019. № 3(60). URL: http://7universum.com/ru/philology/archive/item/7054 (дата обращения: 06.03.2021).
- Буров А. (Фунус Фестус). Тук-тук, это хирург! Записки из реальной курилки. М., 2013.
- Диланян О.Э. Урологам! М., 2012.
- Емец Д.А. Мефодий Буслаев. Маг полуночи. М., 2004.
- Золотая ладья. Сказки и легенды с лазурной Адриатики. М.; СПб., 1993.
- Ковальчук Е.Г. Концепт «смерть» в поэзии В. Высоцкого // Проблемы речевой коммуникации. Саратов, 2003. С. 128-136.
- Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. М., 2003.
- Лотман Ю.М. Смерть как проблема сюжета // Лотман Ю.М. и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 417-430.
- Осипова А.А. Концепт «Смерть» в русской языковой картине мира и его вербализация в творчестве В.П. Астафьева 1980-1990-х гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2005.
- Рогозин Д. Социология смерти // Отечественные записки. 2013. № 5. С. 109-118.
- Русские народные сказки. М., 1985.
- Смерть // Словарь русского языка: в 4 т. М., 1999. Т. 4. С. 152.
- Соломатина Т. Акушер-Ха!: сборник повестей и рассказов. М., 2013.
- Соломатина Т. Приемный покой. М., 2011.
- Ульянов А. Записки санитара морга. М., 2013.
- Умный маленький поросеночек. Венгерские и румынские сказки. М.; СПб., 1994.
- Фарино Е. Введение в литературоведение. М., 2004.
- Федорова М.М. Образ смерти в западноевропейской культуре [Электронный ресурс] // Человек. 1991. № 5. URL: http://www.aquarun.ru/psih/ smert/smert2.html (дата обращения: 06.03.2021).
- Цепов Д.С. Держите ножки крестиком, или Русские байки английского акушера. М.; СПб, 2013.