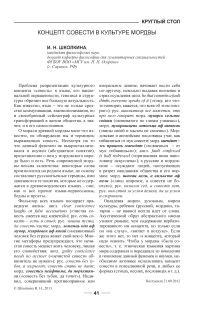Концепт совести в культуре мордвы
Автор: Школкина Ирина Николаевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Финно-Угорский мир: проблемы и перспективы
Статья в выпуске: 2, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проявление культурного концепта «совесть» в языке. Дается сравнительный анализ высказываний (английских, русских, мордовских) относительно праведной жизни.
Фольклор, метафора, совесть, древняя мордва, культурные трансформации, язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14722981
IDR: 14722981
Текст научной статьи Концепт совести в культуре мордвы
Проблема репрезентации культурного концепта «совесть» в языке, его национальной окрашенности, генезиса и структуры обретает все большую актуальность. Как известно, язык – это не только средство коммуникации, взаимопонимания, но и своеобразный сейсмограф культурных трансформаций в жизни общества, а значит, и в его самосознании.
О морали древней мордвы мало что известно, не обнаружили мы и терминов, выражающих совесть. Несмотря на то что данный феномен не выкристаллизовался в ноумен (абстрактное понятие), представление о нем у мордовского народа было и есть. Речь современной мордвы весьма эклектична: некоторые слова произносятся на родном языке, но основу составляют русскоязычные термины, ими заменяются те понятия, которые не содержатся в древнемордовских языках – они, как и все прочие языки-первоосновы, бедны и просты.
Фольклор всех языков поощряет праведную жизнь: англ. clear conscience laughs at false accusations («чистая совесть смеется над клеветой»); рус. есть совесть – есть и стыд; рус. мошна пуста, да совесть чиста; морд. ломанць кда аф мувор, мзярдовок аф юмай («невиновный человек без страха живет свой век»). Многие метафоры предупреждают, что нечистая совесть мешает жить человеку, лишая его спокойствия: англ. guilty conscience needs no accuser («нечистой совести обвинитель не нужен»); рус. совесть без зубов, а загрызет; совесть спать не дает; морд. совестсь пейфтома, да порьхтян-за («совесть без зубов, да точит»). Индивид, совершивший противоправное или аморальное деяние, начинает вести себя по-другому, невольно выдавая волнение и страх осуждения: англ. he that commits a fault thinks everyone speaks of it («тому, кто что-то натворит, кажется, что всяк об этом говорит»); рус. виноватому все кажется, что про него говорят; морд. муворсь сельмос содави («виноватого по глазам узнаешь»), морд. муворшицень сапоньца аф штасак («вины своей и мылом не смоешь»). Мордовские и английские пословицы учат, как избавляться от мук совести: морд. каендат – эсь пряцень маендат («покаешься – от мук избавишься»); англ. fault confessed is half redressed («признанная вина наполовину искуплена»); а русские и мордовские – осуждают людей, поступающих в разрез ожиданиям общества и его нормам: морд. шамац кели, а визькста аф пели («лицо широкое, а совести не боится»); рус. волосом сед, а совести нет, рус. они стыд за углом делили, да за углом и схоронили.
Овладевая миром духовным, миром культуры, ребенок (русский, мордвин, татарин – не важно) всегда идет от слова. Акустический образ абстрактного имени узнают раньше, чем содержание вербали-зированного им концепта, но только если он «на слуху», «витает в воздухе». Если же этого нет, то нет и концепта, который надо освоить. Чтобы у мордвы «была совесть», т. е. этническая языковая картина мира содержала и передавала из поколения в поколение данный феномен и ноумен, необходимо активнее использовать концепт совести в повседневной речи, в любых ее формах (стихах, песнях, пословицах и т. д.).