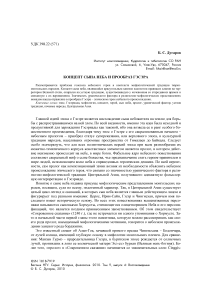Концепт сына неба и прообраз Гэсэра
Автор: Дугаров Баир Сономович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема генезиса небесного героя в контексте мифопоэтической традиции тюрко-монгольских народов. Концепт сына неба, являвшийся краеугольным камнем идеологии правящих кланов на территории Великой степи, опирался на устную традицию, существовавшую у кочевников со стародавних времен и связанную с их верованиями. Значимость уранического фактора в религиозно-мифологических представлениях номадов нашла отражение в прообразе Гэсэра - эпическом герое небесного происхождения.
Эпос, гэсэриада, мифология, концепт, герой, сын неба, пролог, уранический фактор, устная традиция, кочевые народы, центральная азия
Короткий адрес: https://sciup.org/14737266
IDR: 14737266 | УДК: 398.22
Текст научной статьи Концепт сына неба и прообраз Гэсэра
Главной идеей эпоса о Гэсэре является нисхождение сына небожителя на землю для борьбы с распространившимся на ней злом. По всей видимости, именно эта идея была исходной и продуктивной для зарождения Гэсэриады как таковой, ибо она возвела ее в ранг особого божественного произведения, благодаря чему эпос о Гэсэре с его сакрализованным началом -небесным прологом - приобрел статус суперсказания, или верховного эпоса, в культурной традиции народов, населявших огромные пространства от Гималаев до Байкала. Следует особо подчеркнуть, что для всех полиэтнических версий эпоса при всем разнообразии их сюжетно-тематического корпуса константным элементом является пролог, в котором действие неизменно происходит на небе, в мире богов. Фабульное ядро небесного повествования составляет сакральный миф о сыне божества, чье предназначение стать героем-правителем в мире людей, исполняющем волю неба в справедливых героических деяниях. По всей вероятности, сам пролог как композиционный зачин возник из необходимости объяснить небесное происхождение эпического героя, что связано со значимостью уранического фактора в религиозно-мифологической традиции Центральной Азии, получившего адекватную фольклорную интерпретацию в Гэсэриаде.
Понятие о сыне неба издавна присуще мифологическим представлениям монгольских народов, носящим, судя по всему, эндогенный характер. Так, в Центральной Азии существует целый цикл легенд и сказаний, в которых сын неба является главным действующим лицом и фигурирует под разными именами: Цорос, Ирин-Сайн, Гэсэр и Чингисхан, причем имя последнего имеет историческую основу. Во всех этих повествованиях вышеназванные персонажи называются сыновьями Хормусты, считающегося олицетворением Неба и его персонификацией, что является поздним привнесенным заимствованием. Об этом свидетельствует «Сокровенное сказание» (1240 г.), где не встречается ни одного упоминания о Хормусте. Зато в начальной части первой главы этого памятника, которую можно рассматривать как своего рода пролог, насыщенный мифологическими мотивами, говорится о небесном происхождении ханского рода борджигин.
Это известный сюжет об Алан-Гоа, зачавшей прямого предка Чингисхана - Бодончара, от лучей солнца, имеющий глубокую основу в мифологии монгольских племен. Для сравнения: Манзан Гурмэ - прародительница Гэсэра, в бурятском эпосе рождается от солнечных лучей, проникших в лоно ее космической матери Эхэ ехэ бурхан (Великая мать-богиня). Более того, «пролог» в «Сокровенном сказании» начинается со знаменательных слов: Cinggis-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 4: Востоковедение
xaγan-no hujaγur Degere Tenggeri-eče jayaγatu töregsen Вörte-Čino ajuγu («Предком Чингисхана был Бурте-Чино, родившийся по изволению Вышнего Неба») [Козин, 1941. С. 79].
Эта фраза, сакрализующая право наследственной власти, в историческом контексте того времени означала, что именно от Буртэ-Чино – посланника неба, берет начало генеалогия монгольских ханов, наследником и преемником которых является сам Чингисхан. Их династическое древо состоит как бы из двух частей: первая, наиболее мифологическая, насчитывает двенадцать поколений и восходит к Буртэ-Чино, вторая часть родословной ответвляется от Алан-Гоа, положившей начало собственно монголам, или нирун-монголам, в частности борджигинам, из среды которых спустя десять поколений появляется Темуджин, т. е. Чингисхан. Отметим, что своеобразный пролог, состоящий из перечня поколений, характерен для летописной традиции и ряда эпических произведений народов Евразии, например «Шах-наме». В этом можно видеть отголосок мифологической темы поколений, которая довольно плодотворно была разработана по отношению к генеалогии знаменитых героев древности по образу пантеона божеств с развитой иерархической структурой.
В родословной основателя монгольской империи мотив небесного происхождения звучит дважды. Особенно важной представляется фигура Буртэ-Чино (VIII в.), в эпониме которого (в переводе означает «Серый Волк») прослеживается внутренняя связь с древнейшими тотемическими представлениями тюрко-монгольских народов, чьи правящие роды (и не только они) возводили свое происхождение к волку – сакральному животному, связанному с небом. Отголоски подобного рода мифологических воззрений сохранились до наших дней. Буряты называют волка «собакой неба» ( тэнгэриин нохой ). Культ волка существовал и у средневековых монголов. Из летописи Саган-Сэчэна известно, что Чингисхан на охоте запрещал убивать волков, которые воспринимались, по всей видимости, как знак Буртэ-Чино – первопредка, отмеченного печатью небесного происхождения.
Сам же Буртэ-Чино – личность скорее легендарная, обобщающая и освящающая своим тотемическим именем целый ряд генеалогических предков. Об этом свидетельствует упомянутый «пролог» к «Сокровенному сказанию», чья мифологическая окраска указывает на существование у монголов культа неба, восходящего к их историческим предшественникам в Центральной Азии. Именно эта сакральная парадигма, на наш взгляд, была верно угадана Д. Банзаровым в расшифровке имени Чингис. Он полагает, что Темуджин своим официальным онимом восстановил древний титул хуннских каганов, создавших первую кочевую империю (214 г. до н. э. по 93 г. н. э.). Их титул tchen-yu является эквивалентом монгольского тэнгри-кyбy – сын неба [Банзаров, 1955. С. 176, 315].
Концепт сына неба, являющийся краеугольным камнем идеологии правящих кланов древних военно-политических объединений и государственных образований на территории Великой степи, связан происхождением с глубинными основами религиозно-мифологических воззрений кочевых народов, которые выражались изначально в форме тотемистических и антропогонических мифов. Эти сюжеты основаны на архаичных представлениях об органичной связи человека с окружающей его природой, которые в результате эволюции познания окружающей среды оформились в универсальную мировоззренческую концепцию, представленную бинарной оппозицией Отец-небо и Мать-земля. По мере распространения идеологии отцовского рода роль неба стала осознаваться как проявление некой высшей силы, наделяющей небесной благодатью избранных вождей и правителей кочевнических обществ, без которой их власть, в сознании номадов, была нелегитимной. Об этом свидетельствует целый ряд мифических легенд, связанных с древнейшим фольклорным мотивом о чудесном зачатии или рождении (партеногенез).
Так, основатель государства сяньбийцев Таньшихуай (II в.) рождается при следующих обстоятельствах. Его мать, находясь в пути, услышала громовой удар, взглянула на небо, и в этот промежуток ей в рот упала градинка. Она проглотила ее и вскоре после этого почувствовала беременность. У нее родился сын, который еще в совсем юном, почти детском возрасте храбростью, силою и умом удивил старейшин. Однажды у его матери угнали скот. Подросток погнался за грабителями на лошади, рассеял их и вернул награбленное, чем заслужил уважение сородичей. Таньшихуая избрали старейшиной; он положил законы для решения спорных дел, и никто не смел нарушать их (см.: [Бичурин, 1950. С. 154]).
Другая легенда о неземном происхождении связана с императором Елюй Амбаганом – основателем киданьского государства или империи Ляо (конец IX – начало X в.). В ней говорится о том, что перед тем, как забеременеть, его мать видела во сне, будто в ее грудь упало солнце. Родившийся младенец размерами был как трехлетний ребенок и сразу же мог ползать. Через три месяца он начал ходить, а когда ему исполнился год – разговаривать. С самого рождения император отличался великодушием, обладал большим умом и не был похож на остальных. Отличался крепким телосложением, смелостью, воинственностью и сообразительностью. Отлично ездил верхом и стрелял из лука, пробивая стрелой железо толщиной в один цунь. Он пользовался луком, для растяжки которого требовалось усилие, равное тремстам цзиням. Знак, подтверждающий небесное происхождение императора, был продемонстрирован уже в его сравнительно зрелом возрасте. Однажды ночью над местом, где он спал, появился свет, что испугало и удивило окружающих. Все кочевья боялись его смелости, и не было ни одного, которое бы не повиновалось ему. Когда он впервые сам объявил себя императором, соотечественники стали называть его Тяньхуан-ван – Небесный император [Е Лун-ли, 1979. С. 41–42].
При сравнении этих двух генеалогических повествований выявляется их безусловная типологическая идентичность, которая, в свою очередь, напоминает сюжетную канву Гэсэриа-ды, особенно в ее начальной части, связанной с небесным прологом, чудесным зачатием и детскими годами героя:
|
Персонаж |
Мотив неба-отца |
Партеногенез, связанный с небом |
Необыкновенный младенец |
Детские подвиги |
Всеобщий правитель |
|
Таньшихуай Елюй |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Амбаган |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Гэсэр |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Разумеется, вопрос стоит не об отождествлении эпического героя, каковым является Гэ-сэр, с конкретными историческими личностями Таньшихуаем и Елюй Амбаганом. Речь идет о легендарной трактовке образов двух последних персонажей, чьи биографии наряду с историческими реалиями содержат элементы явно фольклорного происхождения (например, натягивание лука), что говорит о народной мифотворческой основе генезиса этих легенд. Именно фольклорная основа сближает сюжетную канву начальной части Гэсэриады с историческими легендами о сяньбийском и киданьском правителях. Не случайно Н. Я. Бичурин в комментариях к историческим источникам отмечает, что сюжет о небесной градинке, от которой забеременела сяньбийская императрица, «принадлежит к числу вымыслов, в Азии обыкновенно составляемых о рождении знаменитого человека» [Бичурин, 1950. С. 154].
Данный сюжет, сообщающий о событиях, положивших начало роду, не является узкоклановым, принадлежащим исключительно представителям ханской фамилии. Он был, вероятно, распространен во многих частях кочевнического мира, отголоски которого обнаруживаются и у ряда современных тюрко-монгольских народов. Например, сходная генеалогическая легенда существует у алтайцев – о происхождение рода мундус (от монг. мyндэр ‘град’), и у бурят – о происхождении рода хангин. В последней говорится, что их прародительница, будучи молодой женщиной, однажды попала под дождь с градом и неожиданно забеременела. От ее сына, рожденного от градинки, пошел род хангин [Небесная дева…, 1992. С. 50]. Сам факт существования мифа о небесном происхождении хангинов, тесно связанных с общим этногенезом бурятского народа, свидетельствует о древних корнях их этнической истории и о возможных этнокультурных связях их предков с сяньбийцами начиная с I в. н. э. Напомним, что с сяньбийской этнической основой связан генезис протобурят хоринского племени [Нимаев, 1993. С. 151], ответвлением которого, согласно устной традиции, считается род хангин.
Таким образом, можно утверждать, что подобного рода легендарные сюжеты, относящиеся к протомонгольской древности, имели достаточно широкую распространенность. Это свидетельствует о народном характере мифотворчества, из сокровищницы которого черпали идеи, используемые в своих интересах, правящие роды. Идея небесного происхождения у кочевников Центральной Азии опиралась на определенную устную традицию, существовавшую у номадов со стародавних времен и связанную с их натурфилософскими верованиями. По крайней мере наиболее раннее и письменно зафиксированное свидетельство существования сюжета о сыне неба можно уловить в семантике хуннского титула шаньюй, о чем мы уже упоминали в связи с отождествлением Д. Банзаровым слов чингис и tchen-yu (тэнгри-кyбy, сын неба). Примечательно, что знаменитый Модэ, при котором хуннская держава особенно усилилась, считал себя поставленным Небом, что семантически равнозначно понятию посланника или сына неба. Небезынтересно отметить, что у хунну формы почитания Неба в сочетании с астральными культами осуществлялись на высшем официальном уровне. Так, шаньюй утром поклонялся солнцу, вечером – луне, а каждый новый год начинался с исполнения обряда жертвоприношения небу, земле и духам [Бичурин, 1950. С. 49, 65].
Еще раз подчеркнем, что письменные свидетельства о культах хуннской правящей элиты и легенды о происхождении сяньбийского и киданьского каганов косвенно указывают на существование фольклорно-мифологической народной традиции, на почве которой вполне мог возникнуть и эпический сюжет о герое – сыне неба. В связи с этим обратим внимание на то, что многие элементы древней центральноазиатской мифологии, отмеченные у хуннов и их исторических преемников – сяньбийцев и киданей, имеют параллели в бурятской мифологии, сохранившей тэнгристские черты.
Так, небу, посылающему град в сяньбийском мифе, соответствует Мундэри тэнгри (Тэн-гри небесного града); солнцу, от которого зачала киданьская ханша, соответствует Наран тэнгри (Солнечное божество), играющее большую роль в прологе бурятской Гэсэриады. Солнце и Луна, отмеченные в культах хунну как космическая пара, называются небесными прародителями в эхирит-булагатском улигере «Еренсей» и во многих бурятских шаманских призываниях. Наконец, небо, издающее гром (фигурирует наиболее часто в древних тюркомонгольских мифологических сюжетах), тождественно популярному персонажу Хухэдэй Мэргэн тэнгри – богу-громовержцу бурятского пантеона. Последний имеет ярко выраженную эпическую ипостась, проявляющуюся в различных улигерных произведениях, в том числе в эпосе «Абай Гэсэр Богдо хан». Согласно замечанию А. И. Уланова, Хухэдэй Мэргэн, безусловно, предшествовал Гэсэру в бурятской эпической традиции, так как ему не нужно было перерождаться на земле. Он обладает способностью появляться везде на своих синих конях, иногда в железной колеснице, запряженной девятью крылатыми синими небесными конями, демонстрируя свою быстроту и блеск небесных стрел-молний. Из всех эпических героев он более других связан с небом и небесными явлениями [Уланов, 1957. С. 78–79].
По предположению известного археолога П. Б. Коновалова, посвятившего ряд работ проблемам этнокультурного наследия монгольских народов и проблеме исторических корней бурятской Гэсэриады, у хунну был уже сложившийся, как у средневековых монголов, комплекс верований. А в 99 божествах небесного пантеона бурят-монголов, целиком вошедшего в эпос «Гэсэр», он видит параллель в упоминаемых у хунну 99 родах, не случайно обозначенных высшим сакральным числом в монгольской мифологии [Коновалов, 1999. С. 68].
Таким образом, в древних легендах о небесном происхождении центральноазиатских правителей и в самом комплексе мифологических представлений кочевников содержались элементы гипотетического мифологического пролога Гэсэриады, связанного с идеей земного героя небесного происхождения, совершающего подвиги во имя благополучия своего рода-племени при покровительстве Неба. Думается, прототипом Гэсэра мог быть Хухэдэй Мэр-гэн – древнейший герой тюрко-монгольского эпоса, стадиально восходящий к его раннему «охотничьему» этапу и несущий в себе следы астролатрии (миф о созвездии Орион – небесных оленухах и небесном стрелке-охотнике), что свидетельствует о глубокой архаике данного эпического образа и его связи с уранической мифологией древних кочевников.
CONCEPT OF THE SON OF THE HEAVEN AND THE PROTOTYPE OF GESER