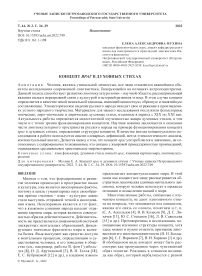Концепт враг в духовных стихах
Автор: Мухина Елена Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 3 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Человек, являясь уникальной личностью, все чаще становится важнейшим объектом исследования современной лингвистики, базирующейся на позициях антропоцентризма. Данный подход способствует развитию лингвокультурологии - научной области, рассматривающей явления языка в неразрывной связи с культурой и историей развития этноса. В этом случае концепт определяется в качестве некой ментальной единицы, имеющей ценностную, образную и понятийную составляющие. Этноисторическое видение русского народа находит свое отражение в произведениях устного народного творчества. Материалом для нашего исследования послужили фольклорные эпические, лиро-эпические и лирические духовные стихи, изданные в период с XIX по XXI век. Актуальность работы определяется недостаточной изученностью жанра духовных стихов, в том числе и с точки зрения функционирования концептов. Научная новизна заключается в описании части лингвокультурного пространства русского народа на примере функционирования концепта враг в духовных стихах, определении структуры концепта. В качестве метода концептуального исследования в работе используется анализ словарных дефиниций, метод этимологического анализа, контекстуальный анализ. Делается вывод о том, что концепт враг употребляется в значениях, не соотносимых с современными толкованиями, что связано с жанровой принадлежностью произведений, отражающих средневековое христианское мировоззрение.
Язык фольклора, духовные стихи, концепт враг, языковая картина мира, лингвокультурология
Короткий адрес: https://sciup.org/147237249
IDR: 147237249 | УДК: 811.161.1+398
Текст научной статьи Концепт враг в духовных стихах
Мнение о том, что формирование и развитие человека происходит в пространстве языка и культуры, уже является неоспоримым фактом, поэтому в цикле гуманитарных наук своеобразная призма «человек – язык – культура» давно стала выступать отправной точкой в исследовании языка. Неоспоримым является и тот факт, что в языковом сознании народа находит отражение картина мира, которая является совокупностью образов действительности. Действительность же представляется динамической системой дискретных ментальных образований, фиксирующих значимые фрагменты мира и аспекты бытия. Язык выступает как средство доступа к ментальным процессам, определяющим и существование человека, и его поведение в обществе (см., например, работы В. фон Гумбольдта [8], Н. Д. Арутюновой [3], В. Н. Телия [18], Е. С. Кубряковой [12] и др.), а владение языком предполагает концептуализацию мира. В этой связи как концепт все чаще рассматривается абстрактная лексическая единица ментального лексикона, которую человек использует в процессе познания и осмысления знаний о мире.
Многочисленные работы, связанные с изучением концепта, не дают однозначного ответа на вопросы, что понимается под концептом, какова его связь со словом, понятием и т. п. (С. А. Аскольдов [4], В. В. Колесов [9], Д. С. Лихачев [13], Ю. С. Степанов [16], Л. В. Савельева [15] и др.). Противоречивы и исследования, посвященные изучению структуры концепта, хотя здесь можно и нужно отметить признание лингвистами его многокомпонентности (Н. Н. Болдырев [6], С. Г. Воркачев [7], В. И. Карасик [1] и др.). В обобщенном виде концепт может быть рассмотрен как пропущенное через чувственный образ понятие. Рождаясь в сознании индивида как образ, который вербализуется с разной степенью точности, концепт может быть исследован с точки зрения лингвистики.
В последнее время в отечественной лингвистике активно создаются словари концептов русского языка (см., например, [1], [10], [17]), отражающие концептуализацию разных сфер жизни человека, например, интеллекта и интеллектуальной деятельности, речевой деятельности, физических состояний и процессов, бытовой сферы и т. д., но не включающие рассматриваемый нами концепт.
Концепт враг уже становился предметом изучения: на материале лингвистических и политических словарей было определено место концепта в этнокультурном сознании носителей языка, установлены компоненты его ядра [5]; рассмотрено функционирование концепта во внутренней и внешней лингвистике, выявлены его лексикосемантические и функционально-прагматические особенности [14]; проанализировано место концепта с точки зрения интерпретационной парадигмы социально-философского знания [11], концепт был рассмотрен в рамках дискурса войны [12] и т. д.
КОНЦЕПТ ВРАГ В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ
Являясь ключевой категорией национальной речемысли, концепт имеет свою предысторию, которая находит отражение в этимологических, исторических словарях и других ранних лексикографических источниках. Рассмотрим некоторые из них.
В этимологических словарях русского языка указывается на общеславянское происхождение лексемы и устанавливается ее родство с лексическими единицами как славянских, так и неславянских языков:
«враг II., род. п. врага, вражий, прилаг. Ввиду наличия -ра- заимств. из цслав.; см. вόрог »; «во́рог “враг; нечистый, черт”, воро́ жий, укр. во́рог, блр. во́рог, др.-русск. ворогъ, ст.-слав. врагъ ἐχθρός (Клоц., Супр.), болг. враг, сербохорв. вра̑г, словен. vrȃg “дьявол, черт”, чеш. vrah, слвц. vrah “убийца”, польск. wróg, род. п. wroga “враг”. Родственно лит. vargas “беда, нужда”, лтш. vārgs 1. “болезненный, хилый; жалкий, убогий”, 2. “беда, бедствие”, др.-прусск. wargs “злой”, лит. vargti “бедствовать”, лтш. vãrgt “чахнуть, прозябать”, лит. vérgas “раб”, далее, возм., гот. wrikan “преследовать”, wraks “гонитель”, лат. urgeō “тесню, гоню”, но едва ли к др.-инд. parāvǰ-r̥ “отверженный” <…>»1.
«Враг. Заимствование из старославянского* восходит к общеславянской основе vorgb, родственного древненемецкому wargs – “злой” и готскому wrikan – “пре-следовать”»2;
«Враг. Заимств. из ст.-сл. яз. Ст.-сл. врагъ < обще-слав. *vorgb (ср. исконно русск. ворог – “дьявол, черт, неприятель, враг”), родственного др.-прус. wargs – “злой”, готск. wrikan – “преследовать”, лат. urgere – “теснить, угнетать, гнать”»3.
Обращает на себя внимание значение «нечистый, черт, дьявол», свойственное восточнославянским языкам. Данное толкование отражено и в словаре древнерусского языка И. И. Срезнев-ского4, и словаре В. И. Даля5. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» даны следующие значения: «1. Враг, недруг, противник; 2. Бес, дьявол; 3. Еретик, отступник; безбожник »6.
Сопоставление словарных статей толковых словарей XX–XXI веков («Большой толковый словарь русского языка»7; «Современный толковый словарь русского языка» Т. Ф. Ефремовой8; «Словарь русского языка» С. И. Ожегова9; «Словарь русского языка» под редакцией А. П. Ев-геньевой10; «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. В. Дмитриева11; «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Уша-кова12) позволяет выделить общие дефиниции лексемы враг :
-
1) тот, кто находится в состоянии вражды, борьбы с кем-либо или с чем-либо; противник, недруг;
-
2) военный противник, неприятель;
-
3) то, что приносит зло, вред.
В некоторых словарях («Большой толковый словарь русского языка»; «Словарь русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой) ряд значений расширен за счет толкования «бес, дьявол, черт» с пометой разг . или устар.
КОНЦЕПТ ВРАГ В ДУХОВНЫХ СТИХАХ
Концептосфера языка и концептосфера фольклора, оперирующие одними и теми же языковыми единицами, не являются тождественными: элементы языка в фольклоре могут утрачивать собственное лексическое значение и приобретать новые валентности в пределах некоторой системы, являющейся замкнутой и определенным образом организованной [2].
Оппозиция свой / чужой в фольклорно-языковой картине мира занимает центральное место и реализуется на бытовом и мифологическом, этнически-религиозном, социальном, макро-и микрокосмическом уровнях. Она затрагивает различные плоскости: человеческий / нечеловеческий, профанный / сакральный, близкий / далекий, христианин / нехристь, родной / неродной и др. Концепт враг является одним из членов данной оппозиции.
Изучение духовных стихов, представленных в пяти сборниках («Калеки перехожие»13; «Голубиная книга: Русские народные духовные стихи XI–XIX вв.»14; «Духовные стихи Русского
Севера»15; «Сборник русских духовных стихов»16; «Стихи духовные»17), показало, что концепт враг не является частотным в духовных стихах (зафиксирован в пяти сюжетах, около 40 текстов (с учетом вариантов), порядка 30 употреблений) и встречается в текстах, в которых, как правило, ярко представлены антиподы в вопросах веры.
В стихе «Егорий Храбрый», в котором речь идет о мучениях Егория за православную веру, четко обозначены два антипода – Егорий и Ку-дриян. Противопоставление героев проявляется уже в их наименованиях: святой - злодей, Егорий-свет - Кудреянище-собака, Егорий-хри-стотерпец - Демьянище-бусурманище, Егорий -царишша Грубиянишша , Егорий-свет - неверный и др., отражающих этическую оценку героев. Так, уничижительное отношение к мучителю Егория выражается не только при помощи словообразовательных средств (суффикс -ищ-), но и при помощи расположения лексем, постепенно усиливающих негативную характеристику героя.
Егорий, утверждая христианскую веру, преодолевает заставы, выставленные Кудрияном, и при обращении к ним прямо называет последнего врагом:
«Ой же вы лесы, лесы темные!
Полноте-ко врагу веровать!
Веруйте-ко в Господа распятаго, В самаго Егорья-света Храбраго»18; «Ой вы горы, горы высокия!
Полноте-ко врагу веровать!
Веруйте-ко в Господа распятаго, В самаго Егорья-света Храбраго»19.
Кудриян выступает как иноверец, как враг, исповедующий басурманскую веру:
«Ой вы, гой еси, три отроцы,
Три отроцы царя Федора!
Вы покиньте веру христианскую, Поверуйте мою латынскую , Латынскую бусурманскую !
Молитесь богам моим кумирскиим, Поклоняйтеся моим идолам!»20.
О враге по вере речь идет и в тех духовных стихах, которые повествуют об Александре Невском как о победителе «нечестивых татар»:
«И наслал Бог на них
Казни лютые,
Казни лютые, смертоносные: Он наслал-то на святую Русь Нечестивых людей, татар крымскиих. Как и двинулось погано племя От севера на юг,
Как сжигали-разбивали
Грады многие,
Пустошили-полонили
Земли русские.
Добрались-то они до святого места, До славного Великого Новгорода.
Но в этом-то граде
Жил христианский народ:
Он молил и просил О защите Бога вышнего.
И вышел на врагов
Славный новгородский князь, Новгородский князь Александр Невский. Он разбил и прогнал
Нечестивых татар.
Возвратившись со войны,
Во иноки он пошел;
Он за святость своей жизни Угодником Бога стал»21.
Несмотря на то что Александр Невский не побеждал татар в битве, его историческая заслуга определена тем, что он одолел врагов ( нечестивых людей, татар крымскиих, нечестивых татар , т. е. иноверцев ) превосходством нравственной силы.
Концепт враг находит свое отражение в духовном стихе «О Борисе и Глебе», в котором речь идет об убийстве сыновей крестившего Русь князя Владимира:
«О! Злой ненависьник врак , Властолюбец богомерзкой Не можёт смотреть на богодержцёв, Вложил он Святополку Помыслити и науцил, Как Каин на Авеля,
Убить Бориса и Глеба»22;
«О, злый ненавистник, враг , властолюбец богомерзский, Не может зреть Богодержец. Вложиша воины Святополку, Помыслиша и научиша, Иже Каин на Авеля, Побить Бориса и Глеба»23.
Обращает на себя внимание как употребление концепта (входит в ряд лексем, характеризующихся пейоративной окраской), так и его значение: здесь речь идет о потусторонних силах, о дьяволе, который внушает Святополку мысль о том, что он должен убить своих младших братьев.
В этом же значении концепт выступает в стихе «Преболезненное воспоминание об озлоблении кафоликов»:
«Попустил Господь такову беду.
Облак темныи всюду осени, Небо и воздух мраком потемни. Солнце в небеси скры своя лучи, И луна в нощи зрак свой помрачи, Но и звезды вся потемниша зрак, И дневныи свет преложися в мрак. Тогда твари вся ужаснушася,
Егда адский зверь вся разреши, От заклеп твердых нагло изскочи. О коль яростно испусти свой яд В Кафолический Красный Вертоград. Зело злобно враг тогда возреве, Кафоликов род мучить повеле»24.
Анализ употребления концепта враг показал, что его ядро отражается в определениях «дьявол» и «противник по религиозным вопросам, иноверец». Во втором значении концепт имеет ближнюю периферийную зону, в которую входят слова татарин ( татарище), басурманин ( бусур-манище), указывающие на людей определенной национальности и веры . В зону дальней перифе рии входит слово собака (вор-собака), которое в духовных стихах употребляется как по отноше нию к неприятелю вообще ( см ., например , были ны ), так и к противнику в религиозных вопросах :
« А Егорья - света не уязвило , Всё тому татарище не верует , Всё тому неверный не почувствовал »25; « Он того , собака, не пытаючи , Начал Егорья - света мучити
Всякими муками да разноличными »26;
« Вор-собака не пытается
Взял Егорья за желты кудри , Повел его во чисто поле , Копал Егорью темный погреб - то , Копал пятьдесят локот , В ширину копал тридцать локот . Взял Егорья за желты кудри , И кидал Егорья в темный погреб - то »27.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Характерным признаком духовных стихов , который объединяет все его виды , является ценностная ориентация , определяющая этот фольклорный жанр и выражающаяся в преоб ладании этической оценки , которая присутствует во всех текстах этого жанра . Концепт враг, яв ляясь одним из членов оппозиции свой / чужой, в произведениях данного жанра реализуется на этнически - религиозном уровне . Вопрос веры в той или иной степени находит свое отражение в произведениях жанра : это и стремление героя посвятить свою жизнь служению Богу , и распро странение православной веры , и противостояние иноверцам и т . д .
Концепт враг находит свое отражение , как правило , в духовных стихах , в которых ярко представлены антиподы в вопросах веры . Изу чение концепта позволяет говорить о том , что его функционирование определено жанровой при надлежностью произведений , в которых от ражено средневековое христианское мировоз зрение, согласно ему враг - это человек другой веры или потусторонние силы , враждебно на строенные по отношению к христианину , к тому , кто придерживается истинной веры , поэтому рас сматриваемый концепт в произведениях данно го жанра выступает в несвойственных современ ному употреблению данной языковой единицы значениях .
Список литературы Концепт враг в духовных стихах
- Антология концептов: [Словарь] / [Науч. ред. В. И. Карасик, И. А. Стернин]. Иваново: Гнозис, 2007. 511 с.
- Артеменко Е. Б. Концептосфера и язык фольклора: характер и формы взаимодействия // Народная культура сегодня и проблемы ее изучения: Сб. статей: Материалы науч. регион. конф. 2004 г. Воронеж: ВГУ, 2006. С. 138-150.
- Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
- Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. М.: Academia, 1997. С. 267-279.
- Бидна О. А. Репрезентация концепта враг в лексикографических источниках русского языка // Язык. Право. Общество: Сб. статей IV Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. С. 266-268.
- Болдырев Н. Н. Когнитивные схемы языковой интерпретации // Вопросы когнитивной лингвистики. 2016. № 4 (49). С. 10-20.
- Воркачев С. Г. Лингвокогнитивный концепт: типология и области бытования. Волгоград: ВолГУ, 2007. 400 с.
- Гумбольдт В . Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 448 с.
- Колесов В. В. Концепт культуры: образ - понятие - символ // Вестник Санкт-Петербургского университета. 1992. Вып. 2. С. 3-40.
- Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале лексики, фразеологии и паремиологии): Проспект словаря / Под общ. ред. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2010. 338 с.
- Коротченко Ю. М. Валюативный потенциал концепта «враг» // Философский текст в современной текстовой культуре: Материалы всерос. конф. Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2018. С. 222-224.
- Ку брякова Е. С. В поисках сущности языка: Когнитивные исследования. М.: Знак, 2012. 203 с.
- Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. М.: Academia, 1997. С. 28-37.
- Опря Е. С. Репрезентация концепта в языковом и речевом пространствах (на примере концепта враг) // Российская наука в современном мире: Сборник статей XIV междунар. науч.-практ. конф. М.: Научно-издательский центр «Актуальность. РФ», 2018. С. 141-143.
- Савельева Л. В. Языковая экология: русское слово в культурно-историческом освещении. Петрозаводск: КГПУ, 1997. 143 с.
- Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. М.: Языки славянских культур, 2007. 248 с.
- Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. Изд. 3, испр. и доп. М.: Академический Проект, 2004. 992 с.
- Телия В . Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический, культурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 248 с.
- Чернобров А. А., Чучуев Д. О. Лицо врага: концепт «враг» в дискурсе войны 1939-2019 гг. Новосибирск: Новосибирский гос. пед. ун-т, 2019. 148 с.