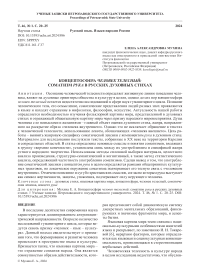Концептосфера человек телесный: соматизм рука в русских духовных стихах
Автор: Мухина Е.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 1 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Осознание человеческой телесности определяет жизненную линию поведения человека, влияет на духовные ориентиры общества и культуру в целом, однако до сих пор концептосфера человек телесный остается недостаточно исследованной в сфере наук гуманитарного цикла. Познание человеческого тела, его осмысление, соматические представления людей разных эпох проявляются в языке и находят отражение в мифологии, философии, искусстве. Актуальность нашей работы определяется необходимостью изучения фольклорной картины мира, представленной в духовных стихах и отражающей общеязыковую картину мира через призму народного мировосприятия. Душа человека с ее помыслами и желаниями - главный объект оценки духовного стиха, жанра, направленного на раскрытие образа «человека внутреннего». Однако это не исключает обращение в текстах к человеческой телесности, использованию лексем, обозначающих «человека внешнего». Цель работы - выявить жанровую специфику соматической лексики с компонентом рука в духовном стихе. Материалом для исследования послужили тексты, собранные в XX веке на территории Карелии и сопредельных областей. В статье определены основные смыслы и понятия соматизмов, входящих в группу «верхние конечности», установлена связь между их употреблением и спецификой жанра устного народного творчества. Использованы методы сплошной выборки материала, целостного анализа произведения, структурно-семантический и когнитивный, а также метод статистического анализа, определяющий частотность употребления соматизмов. Сделан вывод о том, что употребление соматической лексики с концептом рука в целом определяется рамками общепринятых культурных трактовок, но лексическое окружение соматизма подчеркивает его тесную связь с «человеком внутренним». Отмечено появление и сугубо христианских смыслов, согласно которым рука выступает как символ жертвенности, защиты, упокоения, подчеркивает силу верующего человека.
Духовные стихи, языковая картина мира, концептосфера, человек телесный, соматическая лексика, концепт рука
Короткий адрес: https://sciup.org/147242896
IDR: 147242896 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.986
Текст научной статьи Концептосфера человек телесный: соматизм рука в русских духовных стихах
В последние десятилетия современная наука характеризуется доминированием антропоцентрической направленности. Возросло количество исследований гуманитарного цикла, которые ведутся сквозь призму «человек – язык – культура». Данный подход свидетельствует о признании того, что формирование и развитие человека происходят в пространстве языка и культуры. Признается также, что языковая картина мира – это отражение сознания народа. Она является совокупностью образов действительности, кото- рая представляет собой динамическую систему дискретных ментальных образований, фиксирующих и значимые фрагменты мира, и аспекты бытия.
Языковая картина мира тесно связана с национально-культурными особенностями носителей языка и раскрывает, по замечанию И. И. Токаревой [6], иерархию факторов, которые определяются как языковая и социокультурная конвенци-ональность, проявляющаяся в стереотипизации вербальных действий.
Человеческая телесность в культуре народа в целом исследована недостаточно, что обуслов- ливает рост интереса к данной теме при изучении текстов как художественной литературы [1], [4], [5] и др., так и фольклорных жанров. Лексические единицы, являющиеся названиями частей тела человека, становятся предметом изучения в русской волшебной сказке: М. В. Петрухина анализирует соматизмы в сказке и сопоставляет их с аналогичной лексикой былинного и песенного жанров1. В работе Е. О. Каратеевой рассмотрены соматизмы в пословицах и поговорках: исследователь указывает на «богатый модальнооценочный потенциал пословиц и поговорок с соматической лексикой», на возможность данных структур «активно формировать модальный контекст» [2: 112].
В христианской антропологии речь идет или о трихотомии (трехсоставности – тело, душа, дух), или дихотомии (двусоставности – тело, душа) человека. Любой фольклорный жанр характеризуется своим набором типовых элементов, обозначающих «человека внешнего» и «человека внутреннего». При обращении к произведениям фольклора можно говорить о выделении в них нескольких ипостасей человека [3]:
-
1) человек как физическое (телесное) существо;
-
2) человек как существо смертное, которое имеет пол, возраст, этапы жизни и обладает бессмертной душой;
-
3) человек как существо разумное, волевое, которое говорит, чувствует;
-
4) человек как существо, которое верит, является нравственным или безнравственным и др.
Как область народной поэзии стихи занимают обособленную позицию по отношению к другим фольклорным жанрам: главный объект оценки духовного стиха – человеческая душа с ее помыслами и желаниями, поэтому центральной оппозицией в данном жанре является не свое – чужое , что свойственно для фольклора вообще, а грех – праведность . Данная дихотомия по-разному проявляется в текстах жанра, в том числе и на уровне соматической лексики.
Актуальность работы обусловлена недостаточным исследованием как жанра духовных стихов в частности, так и фольклорной версии картины мира в целом, которая является одним из вариантов общеязыковой картины. Фольклорная картина мира обладает своеобразием, определяющимся рядом факторов, среди которых выделяется и избирательный подход при отражении этнокультурной информации. Коллективный автор стремится к жанровой интерпретации параметров народного бытия и познания мира, вычленяя из окружающей действи- тельности только те, которые наделены глубоким этнокультурным смыслом.
Цель нашей работы заключается в определении жанровой специфики рассматриваемой соматической лексики в духовном стихе. В исследовании предполагается решение следующих задач:
-
1) выборка лексем, входящих в компоненты понятия «верхние конечности»;
-
2) выявление типологии и определение смыслов в образной системе произведений жанра концепта рука , а также ее отдельных частей: палец (перст , мизинец) , локоть , плечо , ладонь ;
-
3) описание употребления концепта рука в духовных стихах;
-
4) выявление специфики функционирования соматизмов в произведениях данного фольклорного жанра.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вопрос атрибуции жанра духовных стихов является одним из ключевых. Автор статьи, вслед за исследователем С. Е. Никитиной, под духовными стихами понимает
«народно-поэтические песенные тексты устно-письменной формы, создававшиеся в течение многих веков, объединенные православной тематикой и христианским характером этической оценки» [3: 12].
В своей работе мы рассматриваем тексты духовных стихов (360 произведений с учетом вариантов), опубликованные в сборнике «Духовные стихи Русского Севера»2 и записанные на территории Карелии и сопредельных областей (Архангельская обл., Вологодская обл., Ленинградская обл., Мурманская обл., Республика Коми), которые долгое время хранились в Архиве Карельского научного центра РАН. За редким исключением (менее 10 % стихов от общего объема текстов, записанных на территории Карелии, были опубликованы в периодической печати Олонецкой губернии и в различных изданиях, ставших библиографической редкостью) они не были доступны широкому кругу читателей.
Произведения сборника разнообразны по своему составу и включают как «старшие» эпические духовные стихи, бытовавшие параллельно с былинами, и «младшие» стихи, сложенные позднее, так и псальмы и канты, исполняемые членами старообрядческих общин и насельниками скитов.
В работе использованы методы сплошной выборки материала, целостного анализа фольклорного произведения (осмысление, систематизация и интерпретация материала), структурно-семантический и когнитивный методы, а также метод статистического анализа, определяющий частотность употребления соматизмов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследуемом материале упоминание руки и ее частей встречается 136 раз и является наиболее частотным в сопоставлении с другими единицами соматической лексики, характеризующими человека физического: соматизм рука составляет 76 % употреблений, палец (перст, мизинец) – 14 %, локоть – 7 %, плечо – 2 %, ладонь – 1 %.
В большинстве рассмотренных произведений рука выступает как инструмент действия и одновременно вместилище чего-либо. Руками дают , грабят , умертвляют , « отваливают камень », « принимают ризы » и т. д.:
«Стольки нам поможет Любовь, добродетель, Молитва и слезы, Всеночны поклоны, Милостина ваша, Что нищим давали Своими руками На сем вольном свете» (с. 303);
«Как с тобой я буду Закон сохраняти? Быстро ты стрекаёшь, Грехи собераёшь, Душу погубляёшь, Грехов прибавляёшь, Оци много видят, Уши много слышат, Руки много грабят, Ноги много ходят, Где бы и не надоть» (с. 132).
В них держат , ими берут или в них несут как материальное, так и нематериальное ( «золоту трубу» , «бумажку ербовую и перо» , «ароматы» , «младенчика» , «Христа Бога» и пр.):
«Ай же ты, мой батюшка Агрик! Жил я у Срачинскаго князя В ёго белокаменной палаты, Стоял во Срачинской одежде, Во руке держал вина скляницу полну, Во второй руке я цяру золотую»(с. 283);
«<…> Вынимали душеньку с честных грудей, Завернули душеньку в бело полотно, Понесли душеньку на белых на руках , Клали да его душеньку во светлый рай <…>»(с. 431).
Часть руки может указывать на размер описываемого. Так, локоть, являясь единицей измерения длины, которая не имеет определенного значения и примерно соответствует расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца руки, часто употребляется с числительным сорок и указывает не столько на величину, сколько на важность предмета, о котором идет речь и который имеет большую значимость для христиан:
«Далече, далече, во чистом поле Выпадала с небес книга голубиная, Немалая книга, невеликая, В долину тая книга сорока локот , А в ширину тая книга двадцати локот .
Дак никто до книги не доступится,
Да никто до божественной не дотронется» (с. 251).
«Голубиная книга», о которой идет речь, содержит знания о самой сути вещей и явлений. В ней перечислено и описано все самое главное и великое, что есть на земле, поэтому значимость книги подчеркивается указанием на ее внушительные размеры.
Локоть является единицей измерения и при указании на размеры погреба, в который Егорий Храбрый заточен Демьянищем, выступающим антагонистом главного героя в вопросах веры:
«А тут копали Егорью глубок погрёб. В глубину погрёб да сорока локот , В ширину погрёб да двадцати локот » (с. 255).
Чудесное освобождение Егория из глубокого погреба отображает важную черту христианского поведения – смирение и веру в высшие силы.
Руки могут уже при рождении свидетельствовать об избранности, исключительности героя-праведника:
«Оставалося чадо милое, Молодой Егорей-свет Храбрый.
По локоть у него руки в красном золоте, По колени ноги в чистом серебре <…>» (с. 76).
Палец (перст, мизинец) указывает на ничтожный размер того, о чем могут просить герои, что, например, отражено в диалоге богатого и бедного Лазаря в потустороннем мире. В своем инобытии братья-антиподы находятся на разных полюсах сакрального пространства: один попадает в ад, другой – в рай. После смерти герои стиха вступают в диалог, который свидетельствует о том, что в творческом воображении народных певцов (в отличие от пропасти между полюсами сакрального пространства в евангельской притче) загробный мир выступает как единый топос:
«Просит богатей Лазарь у бедного: “Брате, ты брате, убогой Лазарь, Капь мне хоть со пальца воды”» (с. 68);
«Увидел тут богатый брата во раю, Возмолился богатый брату своему: “Братие ты, братие, убогой Лазарь, Дай мне-ко, братие, хоть с малою перста вода, с мизе-ночка !”» (с. 72).
Отказ в выполнении просьбы, даже такой малой, говорит об отсутствии возможности изменить что-либо самим героям после смерти. В уста бедного Лазаря вложены слова, повествующие о единоличном господстве Бога в потустороннем мире:
«Рад бы я подати, – убогой отвечал брату своему. –
Рад бы я подати, да воля не своя.
Воля не своя, воля Господова» (с. 72).
Плечи (рассматриваем соматизм как часть руки вслед за М. В. Петрухиной, Н. В. Голубцовой, О. Н. Матвеевой, Г. О. Папшевой) выступают мерилом степени изменения внешнего облика героя для того, чтобы он не был узнан родными после возвращения и мог продолжить свой христианский подвиг – служение Богу:
«Создай мне, Господь, волосы по плеча , Создай мне, Господь, волосы по плеча , Создай, Господь, бороду по грудям, Создай, Господь, бороду по грудям, Что, вобщем, как скорые послы будут приходить, так
Чтобы меня света не узнали» (с. 352).
Руки наряду с другим соматизмом ноги могут указывать на тяжелое состояние (болезнь, страх, мучения) героя:
«Молился трудник во пустыни, Не владел он ни рукама , ни ногама.
Пришла Пятница Парасковия,
Трудника свечею осветила, Трудника крестом оградила, Божьи речи говорила <…>» (с. 441);
«Степанида закричала, В страхе руки опустила, И сама чуть не упала, Крышку на пол уронила» (с. 159);
«Поставил Царище Кудреянище
Заставы великие, леса непроходимые, Горы высокие.
Скрутил руки и ноги Егорию Свят[охрабро]му. Пошел домой и похваляется <…>» (с. 83).
Они выступают символом освобождения праведника, которое подчеркивает всемогущество истинной веры:
«Шли мимо Егория слуги царские, “Ой, вы, говорит, слуги царские, Да гос[удар]ские!
Не верайте вы Царищу Кудр[еяни]щу, А поверайте Егория Св[ятохрабро]му, Раскрутите у меня ручки и ноженьки”.
И поверили слуги царские В Егория Св[ятохрабро]го, Раскрутили ему ручки и ноженьки» (с. 83), или исцеление верующих как отображение посмертных чудес главного героя духовного стиха:
«Вот его (Алексея. – Е. М. ) и понесли на кладбище хоронить.
У кого не было ноги, у кого не было руки , У кого не было глаз, всех исцелил» (с. 90).
Ладонь – один из символов святых ран Иисуса Христа – указывает на искупление грехов человеческих, которые взял на себя Всевышний:
«Я, матушка, твой сон рассудил:
Быть мне распятым,
Ко кресту приложены,
В руки гвоздем колотяши,
В ноги гвоздем забиваши…» (с. 74);
«Во шёштом цесу, в петьницю Распяли Ёго, В ноги и в долони
Прибили на гвозьё, Венець наложили На главу Ёго, Муцения ран Невозможно сощытать» (с. 151).
В духовном стихе акцентируется внимание на разделение левый – правый , что связано с центральной оппозицией духовного стиха. Правый имеет значение нравственного, хорошего, справедливого, поэтому подчеркиваются действия героя именно правой рукой: берет в правую руку, снимает с правой руки, держит в правой руке, садится на престол по правую руку, захватывает в правую руку и т. д. Правая рука выступает как мерило праведности, левая – греха:
«И в первый раз вострубит, всех мертвых разбудит: “Вставайте, живы души, мертвы, Ставайте, живы, от сырой земли,
Ставайте, мертвы, от своих гробов, Праведны, вставайте на правую руку , Становитесь, ко стоку лицом воротитесь, А грешны, ставайте на левую руку ….”» (с. 73).
В духовном смысле правая рука – это рука, которой подают. Отданное правой рукой указывает на то, что дающий не помышляет о возмещении или обратном приобретении утраченного.
Концепт рука часто используется с общефольклорным эпитетом белый :
«Простился Ефимьян со стареньким
И ушел из своей теплой спаленки.
Берет в руки бумажку ербовую
И перо берет в свои белые руки
И списывает, оставляет все своему отцу родимому» (с. 94);
«И брали девицу за белы руки .
За белы руки , за злата перстни,
И садили ю в карету чернобархатну» (с. 347);
«Он уж взял Егорья за белы руки , Повел Егорья ко синю морю И спустил Егорья в глубоку воду» (с. 382).
Употребление цветовых прилагательных с существительными, обозначающими человека физического, способствует созданию более сложного, многопланового образа героя: колоратив белый помогает охарактеризовать духовное состояние действующего лица, указать на его чистоту, невинность, добродетель.
Важно в духовных стихах отметить роль предметов, функционально и по форме связанных с руками. Речь идет о перстне , который отдает главный герой своим близким:
«Да он (Алексей. – Е. М. ) пошел в свою да теплую спальню,
Снимал он с руки да обручальный перстень , Да отдавал своей обручной княгине, Да обручной княгине Катерине, Отвязал он шелков пояс, Да отдавал он своей княгине. “Да до тех пор я не приду, Да ты не жди меня домой уж, Да злачен перстень раздаётся, Да шелков пояс расплетется, Да я тогда к тебе да возвращаюсь, Да я тогда к тебе приеду.
Да ты смотри на злачен перстень, Да ты смотри на этот пояс”» (с. 111).
Перстень (часто употребляется в паре с таким элементом одежды, как пояс), который герой носит на правой руке , выполняет функцию распознавания, является знаком, помогающим близким понять, что праведник вернулся после совершения им христианского подвига.
В некоторых произведениях упоминаются распростертые руки Иисуса Христа, которые не только символизируют крест, но и выступают символом защиты верующих:
«Будь мне в благости Отец! Если Ты всегда со мною, То кого я убоюсь.
Под Твоей благой рукою Ничего я не страшусь» (с. 186).
После смерти руки, сложенные на груди крестообразно, свидетельствуют об упокоении героя, обретении им вечного пристанища:
«Гробик ты мой, гробе, Привечный мой доме, Ты ли моя ложа, Ко смерти приложа. Белы руки сложат,
Ко сердцу приложат, Холст оденут, И во гроб положат» (с. 106).
В духовном стихе физическая смерть героя и утрата им своей материальной оболочки не воспринимается как конец жизни. Смерть – это только переход из земного времени во время сакральное, которое является в понимании православного человека более реалистичным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ духовных стихов позволяет говорить о том, что ряд слов, относящихся к соматической лексике, достаточно ограничен и употребление соматизмов не является характерной чертой произведений жанра. Это обусловлено его спецификой – религиозным характером текстов, отражающих народную веру и являющихся своеобразным учебником народно-православной этики, в которых главный объект оценки – душа человека с ее помыслами и желаниями. Являясь хранилищем истинных представлений о вере, духовные стихи отражают народное религиозное мировоззрение, которое не всегда совпадает с официальным церковным вероучением.
Концепт рука в духовных стихах в целом интерпретируется в русле общепринятых культурных значений и является инструментом познания мира, способом передачи душевного состояния, чувств, испытываемых героем. При этом лексическое окружение концепта, в частности употребление с адъективами правый и белый , которые указывают на возвышенное духовное состояние человека, его чистоту, невинность, позволяет говорить об определенной жанровой обусловленности употребления концепта, его подчеркивании преобладания духовного над телесным. Также соматизм рука наполняется сугубо христианскими смыслами и рассматривается как символ жертвенности, защиты, упокоения. Соматическая лексика в духовном стихе отражает определенное переосмысление исходных значений: соматизмы передают могущество не только сакральных сущностей, но и человека верующего, что проявляется, например, при употреблении лексем, обозначающих части руки, в качестве единицы измерения.
Список литературы Концептосфера человек телесный: соматизм рука в русских духовных стихах
- Голубцова Н. В., Матвеева О. Н., Папшева Г. О. Образ "человека телесного": соматическая лексика с компонентом "рука" в лирике А. Ахматовой // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2020. Т. 13. Вып. 6. C. 37-42. DOI: 10.30853/filnauki.2020.6.5 EDN: NBJPEG
- Каратеева Е. О. Модальный потенциал пословиц и поговорок, содержащих соматическую лексику // Язык, культура, ментальность: проблемы и перспективы филологических исследований: Сб. IV Междунар. науч. конф. / Редкол.: Н. И. Степыкин (отв. ред.), Д. М. Миронова, Е. А. Беспалова. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. С. 107-113. EDN: BUJYYU
- Никитина С. Е. Человек и социум в народных конфессиональных текстах (лексикографический аспект). М.: Ин-т языкознания РАН, 2009. 353 с.
- Подгорная В. В. Телесность в языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 2 (44). Ч. 1. С. 160-162. EDN: TFTXBH
- Синицына Н. В. Роль соматической лексики в формировании картины мира // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2011. № 6 (49). C. 233-235. EDN: OPMRNN
- Токарева И. И. Этнолингвистика и этнография общения / Под ред. Ф. А. Литвина. 2-е изд. Минск: МГЛУ, 2003. 244 с.
- Петрухина М. В. Кластер "человек телесный" в лексиконе русской волшебной сказки: Автореф. дис.. канд. филол. наук. Курск, 2006. 19 с. EDN: NNYXIX
- Духовные стихи Русского Севера / Сост. В. П. Кузнецова; Сост. нот. прил. Г. В. Лобкова, М. Н. Шейченко. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. 800 с. Далее цитируется по этому изданию с указанием страницы в скобках.