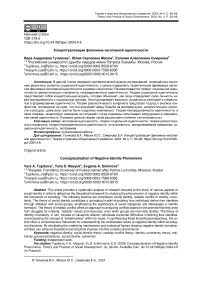Концептуализация феномена негативной идентичности
Автор: Тупикова В.А., Масюк Ю.С., Смирнова Е.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье приведен систематический анализ исследований, посвящённых изучению различных аспектов социальной идентичности, с целью определить теоретический фреймворк изучения феномена негативной идентичности в рамках социологии. Рассматриваются теории: социальной идентичности, реалистического конфликта, неопределенности идентичности. Теория социальной идентичности представляет собой концептуальную модель, которая объясняет, как люди определяют свою личность через принадлежность к социальным группам. Она подчеркивает важность социальных категорий и стереотипов в формировании идентичности. Теория реалистического конфликта предлагает подход к анализу конфликтов, основанный на идее, что они возникают ввиду борьбы за материальные, «реалистичные» ценности и ресурсы, даже если группы были поделены номинально. Теория неопределенности идентичности, в свою очередь, акцентирует внимание на ситуациях, когда индивиды испытывают затруднения в определении своей идентичности. В рамках данной теории также рассмотрено понятие «энтитативность».
Негативная идентичность, теория социальной идентичности, теория реалистического конфликта, теория неопределенности идентичности, энтитативность, воспринимаемое поведение, социальная идентичность, экстремизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149145296
IDR: 149145296 | УДК: 316.6 | DOI: 10.24158/tipor.2024.4.8
Текст научной статьи Концептуализация феномена негативной идентичности
Феномен идентичности широко распространен в современной социальной науке, охватывая психоанализ, психологию, политологию, социологию, философию и историю. Однако общепринятое употребление термина «идентичность» противоречит значительной вариативности как его концептуальных значений, так и теоретической роли.
Существуют три относительно различных варианта применения данного понятия. Некоторые используют термин «идентичность» для обозначения, по сути, культуры народа: в таком случае, нет различия между идентичностью и, например, этнической принадлежностью. Другие используют его для обозначения общей идентификации с коллективом или социальной категорией, как в теории социальной идентичности или в современных работах по социальным движениям, централизуя, таким образом, общую культуру среди участников. Наконец, некоторые используют термин «идентичность» применительно к частям Я, состоящим из значений, которые люди придают своим многочисленным ролям в высокодифференцированных современных обществах.
Процесс идентификации – это постоянно действующий, самонастраивающийся цикл обратной связи. Индивиды всегда должны вести себя так, чтобы их зеркальное Я соответствовало стандартам их приобретаемой идентичности, а результат процесса при этом был успешным.
К объединению в группы людей привела эволюционная потребность защищать себя, выживать и развиваться. Принадлежность индивида к определенной группе определяется на основе различных факторов: например, переменчивых, опирающихся на уровень маргинализации индивида или на его временную деятельность, а также более стабильных, таких как демографические показатели. Групповая принадлежность может представлять собой и восприятие индивидом своей социальной идентичности, которая, в свою очередь, может способствовать проявлению группового поведения.
Вполне вероятно, что участники групп с высоким и низким статусом по-разному воспринимают внутригрупповую структуру. Например, проницаемые групповые границы могут давать возможность восходящей социальной мобильности для эксклюзируемых групп, но в ответ будут представлять угрозу внутригрупповой идентичности для доминирующей группы; для низкостатусных групп стабильные и легитимные связи могут означать отсутствие возможности для коллективных действий, в то время как для доминирующих групп они означают безопасность. Однако нужно учитывать не только статусные позиции индивидов в социальной структуре, но и идеологические рамки, в которых эти позиции и структура оказываются воспринятыми.
Теория социальной идентичности предполагает: когда члены групп с низким статусом считают, что групповые границы проницаемы, они должны отдавать предпочтение стратегиям индивидуальной мобильности, основанным на личной идентичности, – попытке просто «перейти» из группы с низким статусом в более ценную, попробовав «продвинуться вперед», «выйти из группы». Однако когда они считают, что границы непроницаемы (членство в группе фиксировано и «выйти» невозможно), такие стратегии исключаются. Здесь, если социальные отношения надежны, предполагается, что члены группы с низким статусом попытаются пересмотреть либо природу межгрупповых отношений, либо ценность ин-группы (или и то, и другое), продемонстрировав социальную креативность. Если отношения непроницаемы и небезопасны, члены групп с низким статусом с большей вероятностью вступят в социальную конкуренцию с аут-группой, имеющей высокий статус, коллективно участвуя в конфликтных процессах, направленных на изменение статус-кво (способами, недоступными индивидуальной и социальной креативности).
Одной из целей концептуализации феномена социальной идентичности различные теории ставили понимание происхождения мотивации к негативным действиям, например унижению и насилию. Как таковые, они хорошо подходят для объяснения поведения, выходящего за рамки социальных норм, и уходят корнями в политическую догму, сложившуюся после Второй мировой войны, которая пыталась понять нацизм и психосоциальные процессы, допустившие геноцид. В рамках этого понимания были начаты первичные разработки, сфокусированные на индивидуальных факторах, такие как «авторитарная личность» Т. Адорно. Он продвигал убеждение, что поведение нацистского режима было проявлением индивидуальной (личностной) дисфункции, которое соответствовало послевоенным настроениям, подчеркивающим гипотезу о том, что «люди разные» (Adorno, 2019: 30).
С другой стороны, идентичность рассматривается с точки зрения теории реалистического конфликта М. Шерифа, который утверждает, что асимметрия власти (или ресурсов) является основной причиной конфликта между группами, а не персональные качества человека. Теория жизнеспособна в том смысле, что существует «реалистичный» конфликт из-за ресурсов.
Согласно результатам исследования групп мальчиков в детском лагере напряженная конкуренция может быстро перерасти в открытый конфликт (Sherif, 1961). Эксперимент «Пещера разбойников», проведенный М. Шерифом в 1950-х гг., изучал межгрупповые конфликты и сотрудничество между 22 мальчиками в Оклахоме. Изначально разделенные на две группы, они развивали групповую идентичность. Введение соревновательных заданий привело к враждебности между группами. Позднее совместные задания уменьшили этот конфликт, подчеркнув роль общих целей в разрешении групповых противоречий.
В результате идентификации возникает собрание поведений, которое А. Круглански и его коллеги назвали «группоцентризмом»: «когда людям важно разделять мнения с другими членами своей группы; когда они одобряют центральную власть, устанавливающую единые нормы и стандарты; когда они подавляют инакомыслие, избегают разнообразия и проявляют внутригрупповой фаворитизм; когда они почитают нормы и традиции своей группы и демонстрируют яростную приверженность ее взглядам; когда, прежде всего, они демонстрируют все это в комплексе» (Kruglanski et al., 2006: 84).
К этому можно добавить феномены этноцентризма (Brewer, Campbell, 1976), восприятие групповых атрибутов как фиксированных базовых функций (Haslam, 2006b), потенциал дегуманизации аут-групп (Haslam, 2006a), подчеркнутое недоверие и страх перед чужаками (Stephan, Ybarra, Rios, 2015).
В рамках теории социальной идентичности социальные группы имеют относительные статусные позиции по отношению друг к другу (Morris, Webb, 2022: 49). Члены ин-группы оценивают себя относительно членов аут-группы и определяют свои характеристики как более выгодные и позитивные при наличии соответствующих, потакающих такой логике, внешних факторов. Оценка происходит на основе более положительного для ин-группы критерия либо имеется авторитетная группа или индивид, оценивающие критерий как более позитивный у членов ин-группы (Hennigan, Spanovic, 2011: 144). Для большей стабильности группа стремится к однородности своих членов, а процесс групповых сравнений максимизирует восприятие различий и превосходства ин-группы, удовлетворяя как потребность в позитивном отличии от других групп, так и потребность в гомогенности группы (Tarrant, Hagger, Farrow, 2012: 49).
-
А. Тэшфел утверждал, что социально-структурные характеристики внутригрупповых отношений не являются независимыми друг от друга (Verkuyten, Reijerse, 2008: 108). В частности, он считал, что между стабильностью и легитимностью существует тесная связь. Нестабильная система, скорее всего, будет рассматриваться как нелегитимная, а стабильная – как легитимная. В своем мета-анализе Б. Беттенкорт и др. действительно обнаружили, что переменные стабильности и легитимности сильно коррелируют, в то время как статистически достоверных ассоциаций с проницаемостью не было (Bettencourt et al., 2001: 520). Стабильность – это степень, в которой статусные позиции группы считаются неизменчивыми, а легитимность – в какой степени статусная структура принимается как легитимная, имеющая условную социальную силу. Проницаемость относится к степени, в которой отдельные члены группы могут покинуть ее и присоединиться к другой. Воспринимаемая стабильность, легитимность и проницаемость, взаимодействуя, определяют когнитивные, эмоциональные и поведенческие реакции на межгрупповой контекст и стратегии, направленные на достижение позитивной отличительности.
Межгрупповая дифференциация является одним из основополагающих процессов, формирующих социальную идентичность. Она строится на оценочных стереотипах, задействующих упомянутые выше процессы ин-группового фаворитизма, ин-групповой предвзятости и аут-групповой дискриминации, что позволяет поддерживать позитивную социальную идентичность, которая повышает самооценку и уменьшает неопределенность. Оценка позитивности в данном случае предполагает не объективные оценки, например социального благополучия, а субъективную систему оценивания, выстроенную в каждой группе на основании социальных, культурных и политических предпосылок. Следовательно, участие в группе имеет ряд основных функций, в том числе сохранение и укрепление позитивного самоощущения участников. Через принадлежность к определенной группе люди испытывают удовлетворение от чувства принятия и вхождения в сообщество, что способствует формированию позитивного самоощущения. Кроме того, участие в группе так же направлено на оптимизацию отличий от других групп. Через активное участие в групповых процессах люди могут подчеркнуть свою уникальность и индивидуальность, что способствует формированию личной и групповой идентичности (Hogg, 2018: 112). Членство в группе достигает этого через процесс, который порождает внутригрупповой фаворитизм, возникающий в результате сравнения между индивидами внутри ин-группы и с членами аут-группы.
Согласно исследованию С. Озера ключом к пониманию роста негативных оценок этнической аут-группы является переменная, связанная с неуверенностью в себе – степень, в которой человек чувствует себя надежно или ненадежно привязанным к местному социокультурному контексту (Ozer, Obaidi, Pfattheicher, 2020: 1237). Эмпирическое исследование, проведенное С. Озером среди датских и индийских студентов, показало, что нездоровые жизненные привязки напрямую сопряжены с экстремистским отношением к культурным аут-группам и одобрением насильственного экстремизма – это опосредовано ориентацией на этническую защиту (Ozer, Obaidi, Pfattheicher, 2020: 1239).
Люди стремятся уменьшить чувство неуверенности в себе и могут добиться этого с помощью социальной идентификации. Некоторые группы и идентичности лучше справляются с задачей снижения неопределенности. Когда неуверенность в себе повышена, люди стремятся идентифицировать себя с группами, которые позитивно отличаются от других и хорошо структурированы; имеют четкое и директивное руководство (заданный вектор развития), однозначную и вполне определенную идентичность, а также внутри которых члены взаимозависимы и разделяют сходство на основе идентичности. Однако эта динамика неопределенности и процесса определения идентичности может иметь негативные последствия, такие как фанатизм, предвзятость, конфликты, популизм и эхокамерное мышление.
Внутри групп с высоким уровнем неопределенности проявляется тенденция к поддержке иерархических структур, социального доминирования и авторитаризма. Эти группы предпочитают лидеров, которые стимулируют фанатизм, выражают и продвигают популистские идеалы в автократическом и авторитарном стиле, что подчеркивает силу, уверенность и простое, ясное определение идентичности (Gaffney et al., 2018: 20).
Популизм является одним из возможных способов поддержания социальной идентичности для индивидов с высоким уровнем само-неопределенности (Bakker, Rooduijn, Schumacher, 2016: 303). Популистский лидер определяет народ как «молчаливое большинство», чье мнение подавляется правящей политической элитой и которое имеет право на насильственные действия против этой элиты (Belavadi, Rinella, Hogg, 2020: 18). Идентификация с группой повышает убедительность установок или групповых норм, продвигаемых лидерами ин-группы. Причиной этого является индивидуальная мотивация к согласованию поведения и установок с поведением и установками других (особенно прототипичных) членов ин-группы через процесс деперсонализации. Поэтому если человек относит себя к народу, он с большей вероятностью будет принимать популистские утверждения большинства и, соответственно, верить в численное превосходство своей самовиктимизированной группы (Noor et al., 2017: 123).
Некоторые социальные идентичности, обладающие более ясными и четко определенными характеристиками, могут эффективнее снижать уровень само-неопределенности: например группы, которые определяются общепризнанно сформулированными предписанными признаками, способствуют относительной однозначности и согласованности идентичности индивида.
В более экстремальных обстоятельствах и проявлениях неуверенность в себе может мотивировать сильное предпочтение и идентификацию с экстремистскими группами – группами, которые имеют идентичность, повторяющую популистскую идеологию и поведение; связанные с ней теории заговора и нарративы виктимности; имеют сильных и директивных лидеров. Теория неопределенности идентичности представляет собой логическое развитие теории социальной идентичности: она дает мотивационное объяснение поведению внутри групп и межгрупповым явлениям, а также процессам социальной идентичности; может объяснить условия, при которых возникают радикализация, экстремизм и различные формы, которые они могут принимать.
Дж. Гибсон и А. Гоувс обнаружили, что взаимосвязь между солидарностью, аспектами идентичности и нетерпимостью варьируется в зависимости от того, какие подгруппы населения рассматриваются. Таким образом, они демонстрируют, что взаимосвязь между внутригрупповой привязанностью и аут-групповым восприятием более сложная. Взаимосвязь зависит от специфики группы и факторов окружающей среды, которые варьируются у разных людей и в зависимости от ситуации (Gibson, Gouws, 2001).
Теория неопределенности идентичности прогнозирует, что индивиды, страдающие неопределенностью относительно своего собственного Я, предпочитают присоединяться к группам с высоким уровнем признания (энтитативности), с которыми они могут идентифицироваться. В то же время они избегают ассоциаций с группами, лишенными высокого уровня признания, или могут стараться изменить групповую Я-концепцию относительно данных групп, делая их более привлекательными (Hogg, 2007: 92). Энтитативность – это такое свойство группы, степень которого определяется через воспринимаемую четкость границ, внутреннюю однородность, социальное взаимодействие, ясную внутреннюю структуру, общие цели и общую судьбу группы.
Наличие социальной идентичности помогает человеку быть уверенным в том, что члены ин-группы разделяют его мировоззрение, восприятие, убеждения и ценности. Открытие того, что члены ин-группы видят мир не так, как «мы», может стать источником значительной неуверенности в идентичности группы и, следовательно, самоидентификации (Wagoner, Belavadi, Jung, 2017: 509).
Люди, которые чувствуют неуверенность в себе, стремятся успешно идентифицировать себя с соответствующей группой, присоединяясь к новым группам или сильнее идентифицируя себя с той, к которой они уже принадлежат, поскольку идентификация снижает неуверенность в себе, защищает от нее. Таким образом, основная гипотеза теории неопределенности идентичности заключается в следующем: чем более неопределенными являются люди, тем более вероятно, что они будут идентифицировать себя с группой, в которой их характеристики будут позитивно восприняты.
Так, работа М. Хогга и соавторов включала в себя два исследования (Hogg, et al., 2007). В первом исследовании авторы намеренно усиливали неуверенность студентов в себе и измеряли восприятие ими энтитативности их политической партии: связь между уровнем неопределенности и силой идентификации была положительной при высокой энтитативности партии и отрицательной – при низкой. Во втором исследовании авторы проводили полностью контролируемый экспериментальный аналог, в котором неопределенность была подготовлена, а энтитативностью группы, созданной в лаборатории, манипулировали. Как и предсказывалось, групповая идентификация была значительно сильнее в условиях высокой неопределенности и энтитативности.
Группы с высокой энтитативностью также стремятся к гомогенности своего состава, соответственно, члены таких групп должны видеть в своем зеркальном Я подтверждение правильности проявлений групповой идентичности со стороны других членов группы. Люди, которые чувствуют, что группа рассматривает их как сильно отличающихся от группового стандарта, наоборот, могут начать испытывать еще большую неуверенность в себе (Hogg, 2007: 99). Люди могут принимать крайние меры, чтобы подчеркнуть свою преданность и пытаться завоевать доверие группы, а также получить признание. Это особенно вероятно в случае, если:
– группа и ее идентичность играют ключевую роль в самооценке человека;
– кажется, что есть препятствия для выхода из группы;
– мало других жизнеспособных групп, с которыми можно идентифицироваться.
Переходя к рассмотрению подгрупп, следует отметить, что исследование энтитативности также предполагает, что в составе большой группы, где отсутствует консенсус и присутствует неопределенность в социальной идентичности, подгруппы могут стремиться к автономии или отделению от основной группы.
Это наиболее вероятно, когда подгруппа является самоконцептуально важной и рассматривается как относительно более энтитативная и имеющая менее двусмысленную идентичность. Данные рассуждения были изучены и в значительной степени подтверждены исследованиями, проведенными:
– на острове Сардиния, Италия ( N = 174) (Wagoner et al., 2018);
– в штате Техас, США ( N = 254) (Wagoner, Belavadi, Jung, 2017);
– в Южной Корее в контексте суперординатной корейской идентичности ( N = 148) (Jung, Hogg, Choi, 2016);
– в Шотландии, Великобритания ( N = 115) (Jung, Hogg, Lewis, 2018).
Неопределенность в себе переживается как угроза, поскольку люди считают, что у них нет возможности эту неопределенность разрешить. Это наиболее остро ощущается людьми, имеющими простую и монолитную структуру идентичности с очень небольшим количеством дискретных (и позитивных) идентичностей, не имеющих общих атрибутов, то есть когда сложность социальной идентичности низка (Roccas, Brewer, 2002: 102). Там, где самоощущение людей эффективно основано на одной социальной идентичности, насыщающей Я-концепцию, они стремятся к идентификации и принадлежности и жаждут лидерства, которое поможет им защититься от неопределенности или разрешить ее, а также даст им почувствовать себя включенными в социальные процессы.
Таким образом, было рассмотрено, как развитие негативных идентичностей включает в себя предпочтение энтитативных групп, которые имеют простую и консенсусную идентичность, запрещающую инакомыслие и порождающую недоверие и враждебность к аут-группам. Преобладают этноцентризм, эссенциализм, иногда дегуманизация, а группы могут преследовать радикальные, порой насильственные поведенческие программы.
Люди настолько сильно нуждаются в подтверждении идентичности и принадлежности к группе, что живут в «силосах идентичности», отгораживаясь от альтернативных мировоззрений, и могут пойти на враждебные, иногда насильственные крайности, чтобы продемонстрировать свою лояльность и принадлежность к ин-группе. Жажда иметь лидера может открыть двери для нежелательных претендентов на лидерство, доносящих упрощенные послания идентичности в утверждающей и автократической манере. Неопределенность благоприятствует популизму и популистским лидерам, которые продвигают теории заговора, нарратив виктимности и экзистенциальной угрозы, оправдывающие проявление враждебности и насилия со стороны аут-группы.
Любой процесс или событие, которые мешают человеку проявлять поведение, изменяющее отрефлексированные оценки других людей в соответствии со стандартом его идентичности, или которые мешают человеку воспринимать оценки других, представляют собой прерывание процесса идентификации и негативно влияют на самоопределение.
Когда власть между группами распределена неравномерно, у обеих сторон в асимметричных отношениях могут быть причины для тревоги. Более слабая сторона может бояться эксплуатации и/или возмущаться своим положением неполноценности. И наоборот, более сильная сторона может опасаться неизбежного изменения баланса сил в долгосрочной перспективе и угрозы статусу-кво.
Основным признаком уязвимости является чувство человека или группы людей, что они не вписываются в общество, потому что у них нет четкой и прочно обоснованной идентичности, в которой они могут чувствовать себя уверенно и гордиться ею. Необходимо обратить серьезное внимание на то, что люди чувствуют себя маргиналами, отверженными, неуважаемыми и незамечаемыми в обществе, когда их считают неполноценными и неважными. Эти чувства для них очень реальны, по этой причине они уязвимы для влияния и будут находиться в активном поиске идентичности. Распознать людей, которые чувствуют себя подобным образом, – задача сложная, особенно в случае с подростками и молодыми взрослыми, поскольку они находятся в процессе формирования своей идентичности, что является нормальной частью длительного социального перехода от ребенка к взрослому.
Список литературы Концептуализация феномена негативной идентичности
- Антисемитизм в структуре массовой ксенофобии в России: негативная идентичность и потенциал мобилизации / Л.Д. Гудков [и др.] // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2016. № 1–2 (122). С. 140–197. https://doi.org/10.24411/2070-5107-2016-00011.
- Adorno T. The authoritarian personality. London, 2019. 1072 p.
- Bakker B.N., Rooduijn M., Schumacher G. The psychological roots of populist voting: Evidence from the United States, the Netherlands and Germany // European Journal of Political Research. 2016. Vol. 55, no. 2. P. 302–320. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12121.
- Belavadi S., Rinella M.J., Hogg M.A. When social identity-defining groups become violent: Collective responses to identity uncertainty, status erosion, and resource threat // The Handbook of Collective Violence. London, 2020. P. 17–30. https://doi.org/10.4324/9780429197420-3.
- Brewer M.B., Campbell D.T. Ethnocentrism and intergroup attitudes: East African evidence. N.Y., 1976. 232 p.
- Gibson J.L., Gouws A. Making tolerance judgments: The effects of context, local and national // The Journal of Politics. 2001. Vol. 63, no. 4. P. 1067–1090. https://doi.org/10.1111/0022-3816.00101.
- Groups as epistemic providers: need for closure and the unfolding of group-centrism / A.W. Kruglanski [et al.] // Psychological review. 2006. Vol. 113, no. 1. P. 84–100. https://doi.org/10.1037/0033-295X.113.1.84.
- Haslam N. Dehumanization: An integrative review // Personality and social psychology review. 2006a. Vol. 10, no. 3. P. 252–264.
- Hennigan K., Spanovic M. Gang dynamics through the lens of social identity theory // Youth gangs in international perspective: Results from the Eurogang program of research. N.Y., 2011. P. 127–149. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1659-3_8.
- Hogg M.A. Self-uncertainty, leadership preference, and communication of social identity // Atlantic Journal of Communication. 2018. Vol. 26, no. 2. P. 111–121. https://doi.org/10.1080/15456870.2018.1432619.
- Hogg M.A. Uncertainty-identity theory // Advances in experimental social psychology. 2007. Vol. 39. P. 69–126.
- Identity‐centrality, dimensions of uncertainty, and pursuit of subgroup autonomy: The case of Sardinia within Italy / J.A. Wagoner [et al.] // Journal of Applied Social Psychology. 2018. Vol. 48, no. 10. P. 582–589. https://doi.org/10.1111/jasp.12549.
- Intergroup conflict and cooperation: The Robbers Cave experiment / M. Sherif [et al.] . Norman, 1961. Vol. 10. P. 150–198.
- Jung J., Hogg M.A., Choi H.S. Reaching across the DMZ: Identity uncertainty and reunification on the Korean peninsula // Political Psychology. 2016. Vol. 37, no. 3. P. 341–350. https://doi.org/10.1111/pops.12252.
- Jung J., Hogg M.A., Lewis G.J. Identity uncertainty and UK–Scottish relations: Different dynamics depending on relative identity centrality // Group Processes & Intergroup Relations. 2018. Vol. 21, no. 6. P. 861–873. https://doi.org/10.1177/1368430216678329.
- Morris D., Webb E. Chapter 3. Social Identity Theories // Social Psychology in Forensic Practice. Routledge, 2022. P. 47–68. https://doi.org/10.4324/9781315560243-3.
- Ozer S., Obaidi M., Pfattheicher S. Group membership and radicalization: A cross-national investigation of collective self-esteem underlying extremism // Group Processes & Intergroup Relations. 2020. Vol. 23, no. 8. P. 1230–1248. https://doi.org/10.1177/1368430220922901.
- Psychological essentialism, implicit theories, and intergroup relations / N. Haslam [et al.] // Group Processes & Intergroup Relations. 2006b. Vol. 9, no. 1. P. 63–76. https://doi.org/10.1177/1368430206059861.
- Roccas S., Brewer M.B. Social identity complexity // Personality and social psychology review. 2002. Vol. 6, no. 2. P. 88–106. https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0602_01.
- Status differences and in-group bias: a meta-analytic examination of the effects of status stability, status legitimacy, and group permeability / B. Bettencourt [et al.] // Psychological bulletin. 2001. Vol. 127, no. 4. P. 520–542. https://doi.org/10.1037//0033-2909.127.4.520.
- Stephan W.G., Ybarra O., Rios K. Intergroup threat theory // Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. London, 2015. P. 255–278. https://doi.org/10.4324/9780203361993-16.
- Tarrant M., Hagger M.S., Farrow C.V. Promoting positive orientation towards health through social identity // The social cure: Identity, health and well-being. London, 2012. P. 39–54. https://doi.org/10.4324/9780203813195.
- The social psychology of collective victimhood / M. Noor [et al.] // European Journal of Social Psychology. 2017. Vol. 47, no. 2. P. 121–134. https://doi.org/10.1002/ejsp.2300.
- The state of American protest: Shared anger and populism / A.M. Gaffney [et al.] // Analyses of Social Issues and Public Policy. 2018. Vol. 18, no 1. P. 11–33. https://doi.org/10.1111/asap.12145.
- Uncertainty, entitativity, and group identification / M.A. Hogg [et al.] // Journal of experimental social psychology. 2007. Vol. 43, no. 1. P. 135–142. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2005.12.008.
- Verkuyten M., Reijerse A. Intergroup structure and identity management among ethnic minority and majority groups: The interactive effects of perceived stability, legitimacy, and permeability // European Journal of Social Psychology. 2008. Vol. 38, no. 1. P. 106–127. https://doi.org/10.1002/ejsp.395.
- Wagoner J.A., Belavadi S., Jung J. Social identity uncertainty: Conceptualization, measurement, and construct validity // Self and Identity. 2017. Vol. 16, no. 5. P. 505–530. https://doi.org/10.1080/15298868.2016.1275762.