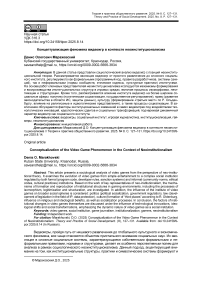Концептуализация феномена видеоигр в контексте неоинституционализма
Автор: Мараховский Д.О.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 8, 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье представлен социологический анализ видеоигр с позиций неоинституциональной теории. Рассматривается эволюция видеоигр от простого развлечения до сложного социального института, регулируемого как формальными (программный код, правила разработчиков, системы санкций), так и неформальными (нормы сообществ, этические кодексы, культурные практики) институтами. На основе работ ключевых представителей неоинституционализма исследуются механизмы формирования и воспроизводства институциональных структур в игровых средах, включая процессы изоморфизма, легитимации и структурации. Кроме того, рассматривается влияние института видеоигр на более широкие социальные сферы: политику (политическая социализация, государственное регулирование), право (развитие законодательства в области ИС, защиты данных), культуру (формирование «третьих мест» по Р. Ольденбургу, влияние на религиозные и идеологические представления), а также процессы социализации. В заключение обсуждаются факторы институциональных изменений в самих видеоиграх под воздействием технологических инноваций, идеологических сдвигов и социальных трансформаций, подчеркивая динамичный характер видеоигр как социального института.
Видеоигры, социальный институт, игровая журналистика, институционализация, геймеры, неоинституционализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149149040
IDR: 149149040 | УДК: 316.3 | DOI: 10.24158/tipor.2025.8.14
Текст научной статьи Концептуализация феномена видеоигр в контексте неоинституционализма
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия, ,
,
направляют человеческое поведение (Scott, 2013; The New Institutionalism…, 1991), позволяет глубоко исследовать механизмы самоорганизации игровых сообществ, специфику транзакционных издержек в цифровом взаимодействии, а также процессы легитимации и воспроизводства игровых практик. Институциональная логика видеоигр проявляется через многоуровневые системы наград и санкций, устоявшиеся нормативные паттерны коммуникации и постоянную адаптацию организационных моделей под влиянием технологических инноваций и социокультурных сдвигов.
Социологический неоинституционализм, возникший в 1970‒80-х гг. как альтернатива доминировавшим ранее рационально-выборным и бихевиористским подходам, сместил фокус анализа с индивидуальных предпочтений и действий на коллективные практики, укорененные в более широких культурных, нормативных и когнитивных структурах (DiMaggio, Powell, 1983; Meyer, Rowan, 1977). В отличие от «старого» институционализма, который преимущественно описывал формальные структуры организаций (например, государственные или правовые), новый институционализм рассматривает институты как «правила игры» в обществе, включающие не только формальные законы и предписания, но и неформальные нормы, когнитивные схемы, сценарии, ритуалы и неявные конвенции, которые придают стабильность и смысл социальному взаимодействию (North, 1990; Scott, 2013).
Ключевой вклад в развитие этого направления внесли Пол ДиМаджио (Paul DiMaggio) и Уолтер Пауэлл (Walter W. Powell), которые в своей работе «The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields» (1983) подчеркнули роль изоморфизма – процесса, посредством которого организации в рамках одного поля становятся все более похожими друг на друга. Этот процесс может быть принудительным (coercive isomorphism), подражательным или нормативным и часто обусловлен стремлением к повышению не только легитимности и выживаемости в глазах стейкхолдеров, но и эффективности.
Концепция структурации Энтони Гидденса (Anthony Giddens), изложенная в «The Constitution of Society» (Giddens, 1984), также релевантна для понимания устойчивости игровых институтов. Он утверждает, что социальные структуры одновременно являются и средством, и результатом человеческих действий (дуальность структуры). Рутинизация действий – ежедневные игровые сессии, выполнение квестов, участие в PvP-баталиях и гильдийных собраниях – кристаллизуется в нормативные паттерны, которые воспроизводятся миллионами игроков, тем самым поддерживая и воссоздавая институциональную среду видеоигр.
Программный код и дизайн видеоигр функционируют как своего рода «железная клетка» в веберовском понимании, жестко задавая рамки допустимых действий и взаимодействий через различные механизмы (Weber, 1978). Лоуренс Лессиг в своей работе «Code and Other Laws of Cyberspace» (Lessig, 1999) (позднее «Code: Version 2.0» (Lessig, 2006)) утверждал, что «код есть закон» («Code is Law») в цифровых пространствах, поскольку архитектура программного обеспечения определяет, что возможно, а что нет. Эти механизмы включают:
-
1. Технические ограничения: физика игрового мира (коллизионные карты), лимиты на количество предметов в инвентаре, предопределенные паттерны передвижения персонажей, доступные действия и способности. Эти элементы создают базовую структуру возможностей и ограничений.
-
2. Экономические и регулятивные санкции, встроенные системы наказаний за нарушение правил, включая временную или перманентную блокировку аккаунтов за использование читов или эксплойтов, конфискацию нелегально полученных внутриигровых ресурсов, автоматизированные системы модерации чатов.
-
3. Репутационные и прогрессивные ранговые таблицы, системы достижений, визуальные маркеры статуса и опыта, такие как, например, уровни, значки, косметические предметы. Данные системы мотивируют определенное поведение и структурируют социальную иерархию.
Эти формальные механизмы, аналогичные бюрократическим процедурам в традиционных организациях, служат для минимизации транзакционных издержек координации в массовых многопользовательских средах (Williamson, 1985). Например, система подбора игроков (matchmaking) в таких играх, как Dota 2 или League of Legends, основанная на скрытом или явном рейтинге (MMR/Elo), автоматически формирует команды и подбирает соперников, снижая затраты времени и усилия игроков на поиск подходящей игровой сессии, выполняя таким образом функцию институционального посредника.
Параллельно с формальными правилами, заданными разработчиками, в игровых сообществах активно развиваются и функционируют неформальные институты. Эти неписаные правила, нормы и ожидания часто возникают спонтанно и поддерживаются самими игроками. Существуют социальные санкции, остракизм и публичное осуждение «читеров» (мошенников), «токсичных» игроков или тех, кто нарушает негласные этические кодексы сообщества (например, «грифинг» – намеренное создание помех другим игрокам ради собственного удовольствия). Бойкоты могут применяться к игрокам, проявляющим неуважение или нарушающим нормы честной игры (Consalvo, 2007). Также формируется специфический игровой жаргон, мемы, ритуалы инициации новичков в гильдиях или командах, общие нарративы и интерпретации игрового мира. Эти элементы способствуют формированию групповой идентичности и сплоченности (Fine, 1983). Кроме того, этические стандарты и конвенции навязывают негласные правила «честного боя» или поведения, которые могут варьироваться от игры к игре и от сообщества к сообществу. Например, в некоторых шутерах осуждается «кемперство» (засада в одной точке), а в некоторых других играх – атака на значительно более слабого игрока без провокации.
Эти неформальные нормы могут как дополнять формальные предписания, так и противоречить им, демонстрируя феномен, который в неоинституционализме описывается как «декап-линг» (decoupling) – расхождение между формальными структурами и реальными практиками (Meyer, Rowan, 1977). Ярким примером является торговля внутриигровой валютой или предметами за реальные деньги. Несмотря на то, что в большинстве игр, таких как World of Warcraft, это формально запрещено пользовательским соглашением, процветают теневые рынки с собственными арбитражными механизмами, системами репутации продавцов и гарантиями сделок, формируя сложную неформальную экономическую систему (Castronova, 2005).
Видеоигры не только являются самодостаточными институциональными средами, но и оказывают все более заметное влияние на другие социальные институты и общество в целом. В контексте неоинституционализма мы можем концептуализировать это влияние следующим образом.
В рамках социализации и формирования сообществ видеоигры создают новые социальные пространства, которые Рэй Ольденбург назвал бы «третьими местами» (Oldenburg, 1989) – пространствами неформального социального взаимодействия за пределами дома («первое место») и работы/учебы («второе место»). Исследования показывают, что онлайн-игры могут функционировать как такие «третьи места», способствуя формированию социальных связей, альтернативных идентичностей и развитию навыков коммуникации и сотрудничества (Steinkuehler, Williams, 2006; Turkle, 1995). Это особенно важно для социализации и инклюзии индивидов, которые испытывают трудности с оффлайн-взаимодействием.
Игровые платформы и сообщества все чаще становятся аренами для политической дискуссии, мобилизации и даже протестной активности. Игры могут использоваться для политической социализации, распространения определенных идеологий или привлечения внимания к социальным проблемам (Bogost, 2007). В ответ государства усиливают регуляторное внимание к игровой индустрии, вводя нормы, касающиеся контента, возрастных ограничений, защиты данных и прав потребителей. Игровая культура также становится инструментом «мягкой силы» и культурной дипломатии, но одновременно может порождать международные трения по вопросам цензуры и контроля информации.
Виртуальные миры часто инкорпорируют элементы мифологии, религиозной символики и этических дилемм, что может способствовать как рефлексии над традиционными верованиями, так и формированию новых культурных кодов (Playing with Religion…, 2014). Однако, опасаясь потенциальных конфликтов и критики со стороны различных религиозных групп, современные разработчики крупных коммерческих игр часто стараются минимизировать прямое использование или явную интерпретацию религиозных образов и сюжетов, что само по себе является институциональной реакцией на социокультурные риски.
Рост индустрии видеоигр стимулирует развитие и адаптацию законодательства в сферах интеллектуальной собственности (например, права на персонажей, модификации игр), защиты прав потребителей (микротранзакции, лутбоксы), регулирования цифровых рынков и кибербезопасности. Государства, особенно те, где развита индустрия разработки игр (США, Китай, Япония, страны ЕС), активно формируют новые правовые нормы. Примечательно, что регуляторные инициативы появляются и в странах, не являющихся крупными производителями игр, например, в странах Аравийского полуострова (ОАЭ, Саудовская Аравия), где вводятся ограничения, часто основанные на культурных и религиозных нормах.
Проведенный анализ демонстрирует, что социологический неоинституционализм предоставляет хорошую эвристически ценную оптику для исследования видеоигр, выходящую далеко за рамки их восприятия как исключительно технологического артефакта или формы досуга. Видеоигры предстают как сложные, многоуровневые социальные институты, характеризующиеся собственными формальными правилами, воплощенными в коде и дизайне, и неформальными нормами, возникающими и поддерживаемыми в динамике игровых сообществ. Концепции, такие как изоморфизм, помогают объяснить конвергенцию практик в игровой индустрии, в то время как теория структурации освещает, как рутинизированные действия игроков воспроизводят и одновременно трансформируют институциональную среду игр.
Институт видеоигр не только структурирует поведение внутри виртуальных миров, но и оказывает все более ощутимое воздействие на другие социальные институты – от экономики и права до политики и культуры, – выступая катализатором институциональных изменений в более широком общественном контексте. Несмотря на растущий объем работ, потенциал неоинститу-циональной теории для изучения видеоигр далеко не исчерпан.
Дальнейшие исследования в рамках неоинституционального подхода могут продуктивно сфокусироваться на анализе взаимодействия и конкуренции институциональных логик в игровой экосистеме, роли институционального предпринимательства в инициировании и трансформации игровых норм и структур, а также на сравнительном изучении различных игровых полей и динамики процессов легитимации. Особого внимания заслуживает исследование влияния национальных институциональных контекстов на игровую сферу, коэволюции технологических инноваций и институциональных форм в видеоиграх, а также процессов институционализации этических стандартов и механизмов саморегулирования в индустрии и сообществах.
Кроме того, кросс-культурные исследования открывают значительные перспективы для углубления неоинституционального анализа видеоигр, позволяя выявить, каким образом национальные и культурные контексты выступают в качестве модераторов формирования, функционирования и трансформации игровых институтов (Kerr, 2017). Такой подход позволяет перейти от преимущественно западноцентричных исследований к более глобальному пониманию феномена. Сравнительный анализ влияния различных государственных регуляторных режимов (например, в странах Восточной Азии, Северной Америки, Европы, Ближнего Востока) на формальные институты игровой индустрии – такие как правила разработки, дистрибуции, монетизации, цензурирования контента и защиты прав потребителей – может выявить различные траектории принудительного изоморфизма и специфику взаимодействия государства и рынка в разных культурных условиях (Gaming Cultures…, 2009). Кросс-культурная перспектива важна для изучения процессов диффузии и адаптации игровых механик и нормативных практик.
Эти направления позволят углубить понимание как специфики видеоигр, так и общих закономерностей институциональных изменений в цифровом обществе.
Несмотря на значительную объяснительную силу, применение неоинституциональной теории к изучению видеоигр также сопряжено с определенными ограничениями. Во-первых, традиционный фокус неоинституционализма на стабильности и легитимации может испытывать трудности с адекватным анализом чрезвычайно высокой скорости технологических инноваций и постоянно возникающими эмерджентными, зачастую эфемерными практиками в динамичной игровой среде. Эти практики не всегда укладываются в логику миметического или нормативного давления, они скорее отражают спонтанную креативность и адаптацию.
Во-вторых, акцент на структурах, полях и организационных формах может приводить к некоторой недооценке агентности индивидуальных игроков и коллективной креативности «снизу». Хотя концепция институционального предпринимательства частично решает эту проблему, глубинное понимание того, как миллионы индивидуальных акторов через свои повседневные игровые практики не просто воспроизводят, но активно оспаривают, модифицируют и создают новые неформальные институты, требует более пристального внимания к микроуровневым процессам, которые не всегда являются центральными для классического неоинституционализма.
В-третьих, хотя неоинституционализм признает существование принудительного изоморфизма и властных отношений, он может уделять недостаточно внимания явным конфликтам, властным асимметриям и формам сопротивления, которые присущи как взаимодействиям игроков (например, конфликты вокруг «читерства» или токсичного поведения), так и отношениям между разработчиками, издателями, платформами и потребителями. Более конфликтно-ориентированные теории могут предложить здесь дополнительные инсайты.
В-четвертых, теория, фокусирующаяся на когнитивных сценариях, нормативных предписаниях и процессах легитимации, может недостаточно полно охватывать аффективные, эмоциональные и телесные аспекты игрового опыта. Эти измерения играют существенную роль в принятии, интерпретации и оспаривании игровых норм и правил, однако часто остаются за рамками традиционного институционального анализа, более ориентированного на когнитивные и социальные структуры.