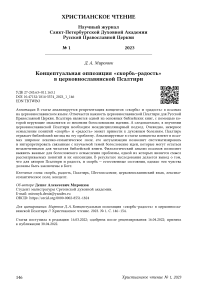Концептуальная оппозиция "скорбь-радость" в церковнославянской псалтири
Автор: Миронюк Денис Алексеевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Вопросы церковного языкознания
Статья в выпуске: 1 (104), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется репрезентация концептов «скорбь» и «радость» в псалмах на церковнославянском языке. Отмечается важность церковнославянской Псалтири для Русской Православной Церкви. Псалтирь является одной из основных библейских книг, с помощью которой верующие знакомятся со многими богословскими идеями. А следовательно, в изучении церковнославянской Псалтири необходим междисциплинарный подход. Очевидно, неверное осмысление понятий «скорбь» и «радость» может привести к духовным болезням. Псалтирь отражает библейский взгляд на эту проблему. Анализируемые в статье концепты имеют в псалмах широкое лексико-семантическое поле, его актуализация позволяет систематизировать и интерпретировать связанные с изучаемой темой богословские идеи, которые могут остаться незамеченными для читателя библейской книги. Филологический анализ псалмов позволяет выявить важные для богословского осмысления проблемы, одной из которых является смысл рассматриваемых понятий и их оппозиция. В результате исследования делается вывод о том, что для авторов Псалтири и радость, и скорбь - естественные состояния, однако эти чувства должны быть заключены в Боге.
Скорбь, радость, псалтирь, шестопсалмие, церковнославянский язык, лексико-семантическое поле, концепт
Короткий адрес: https://sciup.org/140297597
IDR: 140297597 | УДК: 27-243.63+811.163.1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_1_146
Текст научной статьи Концептуальная оппозиция "скорбь-радость" в церковнославянской псалтири
Псалтирь на церковнославянском языке играет важную роль в литургической практике Русской Православной Церкви. Псалмы стали источниками для многих гимнографических текстов, они исполняются за богослужением ежедневно.
На старославянский язык с греческого эта библейская книга была переведена одной из первых [Памятники, 1978, 42; Успенский, 1971, 197]. После Крещения Руси она пришла и в земли восточных славян. С того времени Псалтирь оказывала на русскую культуру большое влияние, псалмы «служили источником вдохновения для™ русских авторов вплоть до XVIII в. — от митрополита Илариона™ до Ломоносова и Державина» [Мещерский, 1978, 47]. Большое влияние книги на литературу лишь подтверждает ее значимость для широких слоев русского общества. Псалтирь несколько столетий выполняла также образовательные функции. С ее помощью учились грамоте и богословию.
В связи с тем, что псалмы наполнены многочисленными аллегориями и образами, их тексты всегда представляли интерес в области герменевтики и экзегезы. Толкование этой книги было распространено и на Руси. Разъяснения и интерпретации псалмов встречаются в трудах прп. Максима Грека [Максим Грек, 1862, 23–33], Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого [Маслов, 1984] и других авторов. Кроме того, создавались словари и азбуковники, в которых приводились аллегорические значения трудных слов [Громов, 2009, 26]. Данные факты безусловно свидетельствуют о том, что церковнославянская Псалтирь постоянно являлась объектом особого исследовательского внимания, в частности, в сфере интерпретации смыслов, заложенных в библейский текст.
Псалмы по содержанию имеют вневременный характер, хотя в них и описываются события, происходившие в действительности. Каждое поколение христиан сталкивается с вызовами современного ему общества и решает проблемы, свойственные лишь определенной эпохе. Содержание Псалтири при этом продолжает оставаться актуальным.
Важными для христианства являются понятия «скорбь» и «радость». «Всегда радуйтесь» , — пишет ап. Павел (1 Фес 5:16), указывая на то состояние, к которому должно стремиться каждому христианину. Примечательно, что и скорбь, и радость с точки зрения богословия могут быть как показателем верного душевного расположения, так и свидетельствовать о духовной болезни.
Тема скорби и радости — одна из основных для текстов псалмов. В них отражено библейское отношение к данной проблеме. Авторы Псалтири в словесной форме выражали прежде всего свое восприятие мира, однако каждый читающий и слушающий псалмы может получить пользу, поскольку «все Писание богодухновенно и полезно для научения» (2 Тим 3:16).
Восприятие лексического и фразеологического материала текста Псалтири, а также понимание богословских идей и исторического контекста псалмов может вызывать определенные трудности. Это вполне естественно, поскольку «содержание Псалтири необычайно глубоко и многопредметно™ Псалтирь явилась не только образцом высокой духовной поэзии, но заключает в себе глубокую мудрость и носит боговдохновенный характер» [Клименко, 2012, 8]. Этому в полной мере соответствуют глубины смысла, заключенного в псалмах (См.: [Клименко, 2012, 8]).
Репрезентация концептов скорби и радости в рассматриваемой библейской книге не всегда очевидна и требует анализа, который может способствовать формированию библейского отношения к их восприятию.
Важно сказать о терминах понятие, концепт и лексико-семантическое поле, которые используются в данной статье. В. З. Демьянков считает, что, хотя «термины понятие и концепт — исторически дублеты (русское понятие калькирует латинское conceptus), в современных научном и ненаучном узусах эти термины расходятся в употреблении» [Демьянков, 2001, 33]. Нужно согласиться с мнением Д. Д. Хайруллиной, согласно которому понятие — «обобщенная мысль об определенном предмете или явлении» [Хайруллина, 2017, 160], а концепт — «индивидуальный смысл, демонстрирующий не обязательно важные, но внутренние признаки объекта: образы, символы, чувства оценки» [Хайруллина, 2017, 160], другими словами, это «идея, включающая не только абстрактные, но и конкретно ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки» [Карасик и др., 2009, 5]. Д. Д. Хайруллина делает вывод, что «концепт — содержание понятия, т. е. то же, что смысл» [Хайруллина, 2017, 160].
В данной статье рассматривается репрезентация концептов «скорбь» и «радость» в псалмах на церковнославянском языке. Они, в свою очередь, неразрывно связаны с богословскими понятиями «скорбь» и «радость». Лексико- семантическое поле при этом является «одним из основных средств вербализации концепта» [Потапова, 2020, 51].
Лексико-семантическое поле скорби и радости включает в себя две лексикосемантические группы (ЛСГ): ЛСГ скорби и ЛСГ радости . В них смысловые связи между словами устанавливаются на базе их лексико-семантических вариантов, которые выступают как элементарные единицы лексико-семантической системы языка.
Псалтирь на церковнославянском языке существует более тысячи лет. Ее читают верующие Русской Православной Церкви как при совершении богослужений, так и в домашней молитве. Этим обусловлен интерес к церковнославянскому тексту Псалтири. При богословском анализе церковнославянских псалмов будет использоваться православная традиция толкования, ибо церковнославянский перевод Псалтири был выполнен для нужд Православной Церкви.
Перевод Псалтири на церковнославянский язык претерпевал в течение веков различные изменения, что в конечном итоге привело к появлению той его формы, которая используется в современной практике Русской Православной Церкви [Астафьев, 1889; Рижский, 1978]. В настоящее время тексты псалмов, как в полных изданиях Библии на церковнославянском языке, так и в богослужебных книгах, приведены согласно Елизаветинской Библии, изданной в 1751 г. (Библия, 1751).
Материал Псалтири достаточно объемен, именно поэтому уместно рассмотреть лексико-семантическое поле скорби и радости в Псалтири на примере избранных псалмов. Подходящей для этого группой текстов видится Шестопсалмие. Псалмы в нем тематически разделены на грустные и радостные, и по данному признаку происходит их чередование [Борисова, 2000, 8]. Выбор псалмов для исполнения в данной части богослужения обусловлен еще и тем, что «они некоторыми местами своими имеют в виду ночь и утро» [Скабалланович, 1961, 617], что семантически связано с рассматриваемыми концептами, о чем будет сказано ниже.
В данной работе при анализе будет использоваться церковнославянский текст псалмов, взятый из Следованной Псалтири (Псалтирь, 1993). При обращении в случае необходимости к греческому первоисточнику будет использоваться текст, приведенный в Великом Часослове (Ωρολόγιον, 1851), который употребляется в богослужении Элладской Православной Церкви.
Концепт «скорбь» в церковнославянской Псалтири
В словаре русского языка XI–XVII вв. приводятся следующие значения слова скорбь : 1. «душевное страдание, глубинная печаль»; 2. «телесные страдания, мука»; 3. «болезнь, телесный недуг»; 4. «беда»; 5. «тяготы, лишения, нужда»; 6. «досаждение»; 7. «огорчение»; 8. «обида»; 9. «жалобы»; 10. «заботы» [Словарь русского языка, вып. 24, 248]. Словарь синонимов русского языка З. Е. Александровой дает для лексемы скорбь в качестве синонимов слова печаль, грусть, тоска, боль, сокрушение [Александрова, 2001, 456]. Важно, что данным словом характеризуется не только душевное состояние, возникшее вследствие тех или иных причин, но и сами причины, к нему приведшие.
Концепт «скорбь» актуализируется в тексте Шестопсалмия с помощью описания различных эмоциональных и физических состояний автора и обстоятельств, его окружающих. Содержание псалмов имеет свою богословскую интерпретацию, которую необходимо учитывать читателям и слушателям данных библейских текстов. Поэтому при анализе лексико-семантического поля скорби в Шестопсалмии важно обращаться к богословской трактовке их содержания.
Одной из основных причин состояния скорби для авторов Псалтири является грех, то есть «действие против воли Божией» [Иоанн Златоуст, 1900, т. VI, кн. 1, 184]. В псалмах Шестопсалмия он описывается так: БеззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою; нёсть ми1ра въ костёхъ мои1хъ, t лицA грBхъ мои1хъ (Пс. 37:5); беззак0ніе моE ѓзъ возвэ-щY, и попекyсz њ грэсЁ моeмъ (Пс 37:19); исп0лнисz ѕHлъ душA моS, и жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz (Пс 87:4).
Лексемы грёхъ и беззак0ніе здесь тождественны, что соотносится со словами иной библейской книги: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» (1 Ин 3:4). Словарь древнерусского языка XI-XVII вв. определяет церковнославянское слово беззак0н'|е как «нарушение догматов христианства, законов, установленных церковной или светской властью; грех, безнравственность» [Словарь, т. 1, 119].
К понятию греха можно отнести ѕло2 , о котором повествуется в Пс 87. В «Полном церковнославянском словаре» прот. Григория Дьяченко указаны такие значения данного слова: «1. зло; 2. беда; 3. грех» [Дьяченко, 1899, 203]. Экзегет Евфимий Зигабен, комментируя это место, пишет, что естественное и собственное зло является грехом [Евфимий Зигабен, 1907, 687].
Скорби проистекают также от действий врагов: Чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2 (Пс 3:2); не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS (Пс 3:7); нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2, и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ, глаг0лаху сyєтнаz (Пс 37:13); врази1 же мои2 живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды (Пс 37:20); погнA врaгъ дyшу мою (Пс 142:3); потребиши враги мо‰, и погубиши вс‰ стужaющыz души2 моeй (Пс 142:12).
В данном контексте прослеживается связь между словами врaгъ и стужaющій. Последнее является формой субстантивированного причастия, образованного от глагола стУжа'ти — «угнетать, теснить, беспокоить» [Седакова, 2008, 345]. Церковнославянское слово врaгъ значит «противник, недруг, неприятель» [Словарь, т. 1, 479]. В «Полном церковно-славянском словаре» прот. Григория Дьяченко дано определение причастию стужazй : «Притесняющий, угнетающий: гонитель, враг» [Дьяченко, 1899, 680].
Враги описываются также словосочетаниями с иными субстантивированными причастиями: ищУщ'|'и дУшУ ; ищУщ'|'и sлдz ; ненавИдzщiи . Существительное дУша имеет большое количество значений, в данном контексте уместны два: «жизнь» [Дьяченко, 1899, 159], на которую могут покушаться враги материальные; «духовная часть существа человеческого» [Дьяченко, 1899, 159], подвергающаяся нападкам врагов нематериальных.
Под врагами нематериальными можно понимать и тех, которых «мы имеем в наших собственных похотях и страстях™ и врага нашего спасения — диавола» [Евфимий Зигабен, 1907, 32]. В Пс 3 есть указание на большое количество таких врагов.
Слово тма2 , употребленное в этом псалме в Р. п. мн. ч., имеет значение десяти тысяч или огромного множества [Дьяченко, 1899, 714], в греческом тексте здесь указано μυριάδων с теми же смыслами [Liddell, Scott, 1996, 1133]. На увеличение числа противников также указывает аорист ^■мн0жишасz , от oyмн0житисz , что значит «увеличиться» [Дяченко, 1899, 755].
Псалмы также наполнены страхом перед наказаниями Божиими: Да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE (Пс 37:2); на мнЁ ўтверди1сz ћрость тво‰ (Пс 87:8).
Церковнославянское слово ћрость значит «сильный гнев, раздражение» [Дьяченко, 1899, 852], а гнё'въ — «досада, ярость» [Дьяченко, 1899, 125].
Однако под ћростію и гнёвомъ Господними, по слову свт. Василия Великого, нужно понимать меру наказаний, находящих «на согрешающих по Божиему Суду»
[Василий Великий, 2008, 376]. Гнев Бога проявляется в дидактических целях и служит исправлению человека [Литвинова, 2000, 618–622].
Свт. Иоанн Златоуст поясняет применение в отношении действий Бога слов, описывающих эмоциональное состояние: «Когда слышишь слова: ярость и гнев, в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого: это — слова снисхождения» [Иоанн Златоуст, т. V, кн. 1, 49].
Бедствия, через которые проходят авторы псалмов, не всегда носят нематериальный характер, но могут проявляться физически, хотя и это в понимании псалмопевцев также следствия духовных процессов. Прежде всего это выражается в болезненных телесных ощущениях. Например, в пс. 37 сказано: Нёсть и3сцэлeніz въ плоти моей ; нё'сть мира въ костёхъ моихъ ; пострада'хъ и слzк0хсz до конца (Пс 37:4). Слzк0хсz — аорист от глагола слzщИсz , который имеет значение «сгибаться, кривиться» [Словарь русского языка, вып. 25, 151], то есть здесь описывается физическое состояние.
Так и авторы псалмов переживают столь сильное эмоциональное изнеможение, что ощущают его как физические страдания и описывают соответствующими словами.
Немало мест, где псалмопевцы прямо свидетельствуют о своих скорбных чувствах, причиной которых являются те состояния, о которых было сказано выше. Например, Пс 37: Ве'сь де'нь сё'тУz хожда^ъ (Пс 37:7) — и Пс 142: ины во мнЁ дУхъ мой (Пс 142:4). Причастие сё'тУz образовано от глагола сё'товати , то есть «глубоко печалиться, скорбеть» [Словарь русского языка, вып. 24, 102]. В церковнославянском языке оунываю — «ослабеваю, дремлю, нахожусь в пагубном или опасном состоянии» [Дьяченко, 1899, 758], а оуныше — «удрученное состояние духа» [Дьяченко, 1899, 758].
Таким образом, в псалмах ясно отражены состояния скорби, смятения и уныния, а также указаны их причины.
Итак, причины скорби таковы: грех: грё^ъ , беззак0н!е , sло ; враги: врази , стУжа'ющ!и , ищУщ!и дУшУ , ищУщ!и sлдz , ненавИдzщiи ; гнев Божий: ырость , гнё'въ ; болезнь: пострада'ти ,
слzщисz .
Само состояние выражается с помощью лексем, образованных от глаголов сёто - вати , оунывати .
Все это составляет концепт «скорбь», лексико-семантическое поле которого ярко и обширно выражается в текстах Псалтири. Ему в псалмах противопоставляется иной концепт — «радость».
Концепт «радость» в церковнославянской Псалтири
Слово радость имеет следующие значения: «веселье, наслаждение, утеха, а также событие, лицо, вызвавшее эти чувства» [Словарь русского языка, вып. 21, 125]. Синонимы слова таковы: «ликование, торжество, праздник, эйфория» [Александрова, 2001, 411]. Здесь, как и в случае с описанием скорби, нужно сделать акцент на том, что радость — не только состояние, но и его причина.
Основанием радости для авторов псалмов является надежда на Господа и Его милость. Сокрушение о грехах сменяется верой в милосердие Божие: W3чищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰ (Пс 102:3); и3збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами (Пс 102:4).
Божие заступничество дает псалмопевцам укрепление в отношении врагов (ко торых, как уже отмечалось, можно понимать как в материальном смысле, так и в духовном). Это чувство отражено в Пс 3: Ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2 (Пс 3:8). Ср. в Пс 62: Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2, вни1дутъ въ nреисnHднzz земли (Пс 62:10). Относительно образа сокрушения зубов необходимо сказать, что большинство толкователей понимают это место так: «Царь Давид взял образ зверей, у которых крепость состоит наипаче в зубах, при сокрушении которых, делаются они неопасными» [Афанасий Великий, 2011, 14]. ПреисnHднiй — «очень низкий, подземный» [Дьяченко, 1899, 485].
Страху перед гневом Бога противопоставлена радость о Его милости. Наиболее полно это выражено в словах Пс 102: Не до концA прогнёваетсz ... не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ (Пс 102:9–10). Существительные грёхъ и беззак0ніе здесь, как и в Пс 37, являются синонимами. Монах Евфимий Зигабен, комментируя это место, пишет: «Поскольку Бог незлобив и многомилостив; то посему не наказывает нас, как должно, за беззакония и грехи наши» [Евфимий Зигабен, 1907, 102].
Псалмопевец также свидетельствует о том, что Бог исцеляет как духовные, так и физические болезни: И3цэлsющаго вс‰ недyги тво‰ (Пс 102:3). Церковнославянское недyгъ прежде всего означает «болезнь» но в переносном значении может пониматься и как духовный порок [Словарь русского языка, вып. 11, 108]. В греческом оригинале употреблено слово τάς νόσους, которое имеет ту же семантику [Liddell, Scott, 1996, 1178].
Некоторые лексемы прямо выражают радость: Въ кровЭ крилY твоею возрa'дУюсz (Пс 62:8); цaрь же возвесели1тсz њ бз7э (Пс 62:12); t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰ (Пс 62:6).
Интересны слова ра'дость и веселее . Первое означает «1. радость; 2. праздник» [Словарь, т. 1, 394], второе — «радостное чувство, ликование, торжество» [Словарь, т. 9. 460]. Таким образом, эти слова можно назвать синонимами.
Тyкъ ( от греческого στέαρ) означает «жир» [Благова и др., 1994, 708]. У слова ма'сть широкий спектр смыслов: «благовонная мазь, миро, елей»; «жирность, тучность», «плодородие» [Словарь русского языка, вып. 9, 40]. Материальный достаток и изобилие являются образами духовного наполнения человека Божиими милостями и благословениями.
Немаловажным проявлением радости в Псалтири является выражение благодарности Богу: формы глагола бlгослови1ти встречаются в Шестопсалмии семь раз. У данного слова такие значения: «1. призывать на кого-то Божью милость; 2. хвалить, благодарить; 3. передавать по наследству» [Словарь русского языка, вып. 1, 218]. В Шестопсалмии его нужно понимать во втором значении.
Итак, для описания радости используются слова, производные от существительных ра'дость и весели . Одним из проявлений радости является благодарность Богу, выраженная глаголами б1гословити , восхвалити .
Менее явно концептуальная оппозиция «скорбь — радость» выражается в образах, связанных со сном и пробуждением. Н. П. Борисова отмечает, что «нетрудно увидеть проходящую через все Шестопсалмие волну — чередование тьмы и света» [Борисова, 2000, 8]. Неоднократно в нем употребляются дериваты слова ќтро . Однако наиболее ярко эта связь отражена в одном из предложений Пс 3: Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ: востaхъ, hkw rDb застУпитъ ms (Пс 3:6). Воста'хъ — аорист от воста'ти : «1. подняться, встать; 2. исцелиться от болезни; 3. ожить, воскреснуть; 4 появиться; 5. настать; 6. остановиться» [Словарь русского языка, вып. 3, 152]. Здесь нужно отметить, что в греческом тексте на месте двоеточия, стоящего перед словом востaхъ , указан колон, который соответствует русскому двоеточию или точке с запятой [Славятинская, 2003, 25]. Это подтверждает, что в тексте глаголы аориста намеренно разделяются. Учитывая данный факт, первую часть предложения можно считать описанием скорби и уныния псалмопевца, который, «предузнав, как пророк, что Господь поможет ему, тотчас же возбудил дух» [Евфимий Зигабен, 1907, 33].
Заключение
Радость и скорбь — состояния, присущие каждому человеку. Однако все, заложенное Богом в людях при сотворении, после грехопадения исказилось и стало служить не только во благо, но и во зло. Это касается и описываемых выше понятий. С помощью Библии христиане могут научиться верно оценивать свое духовное расположение в отношении этих состояний. Отражение их часто встречается в Псалтири. Для прор. Давида и других авторов псалмов причинами скорби становятся сокрушение о грехах, нападение духовных и физических врагов, а также страх перед гневом Божиим. Причины для радости таковы: упование на помощь Божию, вера в его милость и всемогущество.
Вместе с тем данные понятия взаимосвязаны. Скорбь, связанная с отпадением от Господа, всегда имеет завершение. Радость, состоящая в вере и надежде на Бога, невозможна без осознания собственной греховности, однако она всегда сменяет скорбь.
Таким образом, Псалтирь свидетельствует о том, что и скорбь, и радость должны быть заключены в Боге.
Примечательно также лексическое выражение данных концептов в псалмах на церковнославянском языке. Лексико-семантическое поле скорби и радости включает в себя выражения, содержащие не только данные лексемы или производные от них слова, но и ряд синонимов.
Репрезентация этих концептов включает в себя и состояния, испытываемые человеком, и причины, к ним приводящие.
Все это показывает: анализ псалмов на церковнославянском языке позволяет глубже изучить заключенные в них богословские вопросы.
Список литературы Концептуальная оппозиция "скорбь-радость" в церковнославянской псалтири
- Библия (1751) — Библия, сиречь книги Ветхого и Нового Завета. СПб., 1751. Т. 2. 1172 с.
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. М.: РБО, 2014. 1295 с.
- Псалтирь (1993) — Псалтирь Следованная. М.: Изд-во Донского м-ря, 1993. 565 с.
- QpoXoytov (1851) — QpoXoytov то цеуа. BevExia, 1851. 547 ст.
- Александрова (2001) — Александрова З.А. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. М.: Русский язык, 2001. 586 с.
- Астафьев (1889) — Астафьев Н. А. Опыт истории Библии в России в связи с просвещением и нравами. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1889. 180 с.
- Афанасий Великий (2011) — Афанасий Великий, свт. Толкование на псалмы. М.: Благовест, 2011. 527 с.
- Благова и др. (1994) — Благова Э, Вечерка Р., Цейтлин Р.М. Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков). М.: Русский язык, 1994. 800 с.
- Борисова (2000) — Борисова Н.П. Шестопсалмие: Его содержание, особенности, духовный смысл. СПб.: Сатисъ, 2000. 30 с.
- Василий Великий (2008) — Василий Великий, свт. Творения. М.: Сибирская благозвон-ница, 2008. Т.1. 1135 с.
- Громов (2009) — Громов М.Н. Культурно-историческое и философское значение славянской Псалтири // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2009. Спец. выпуск к № 4. С. 18-37.
- Демьянков (2001) — Демьянков В. З. Понятие и концепт в художественной литературе и научном языке // Вопросы филологии. 2001. № 1. С. 26-33.
- Дьяченко (1899) — Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. М.: Тип. Вильде, 1899. 1120 с.
- Евфимий Зигабен (1907) — Евфимий Зигабен, мон. Толковая Псалтирь. Киев: Тип. Киево-Печерской Успенской лавры, 1907. 1163 с.
- Иоанн Златоуст (1900) — Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. I-XII. СПб.: Изд-во СПбДА, 1895-1906. Т. V. Кн.1. СПб., 1899; Т. VI. Кн. 1. СПб., 1900.
- Иоанн Лествичник (2013) — Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. М.: Изд-во Сретенского м-ря, 2013. 592 с.
- Карасик и др. (2009) — Карасик В.И., Красавский Н.А., Слышкин Г.Г. Лингвокультурная концептология. Волгоград: Парадигма, 2009. 115 с.
- Клименко (2012) — Клименко Л.П. Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири. Н. Новгород: Христианская библиотека, 2012. 560 с.
- Литвинова (2000) — Литвинова Л В. Гнев // Православная энциклопедия. М., 2000. Т.Х1. С. 618-622.
- Максим Грек (1862) — Максим Грек, прп. Сочинения. Казань: Тип. губернского правления, 1862. Ч. 3. 297 с.
- Маслов (1984) — Маслов С.И. Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность: опыт историко-литературной монографии. Киев: Наукова думка, 1984. 245 с.
- Мещерский (1978) — Мещерский Н.А. Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности. СПб.: Изд-во ЛГУ, 1978. 130 с.
- Памятники (1978) — Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI — начало XII века. М.: Художественная литература, 1978. 413 с.
- Потапова (2020) — Потапова О. Е. Вербальная репрезентация концепта. Лексико-семантическое поле как фрагмент языковой картины мира. Чебоксары: Среда, 2020. 164 с.
- Рижский (1978) — Рижский М.И. История переводов Библии в России. Новосибирск: Наука, 1978. 208 с.
- Седакова (2008) — Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковно-славяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. 430 с.
- Скабалланович (1961) — Скабалланович М.Н. Толковый Типикон. М.: Изд-во Сретенского м-ря, 2008. 961 с.
- Славятинская (2003) — Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. М., 2003. 625 с.
- Словарь — Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.). Т. 1-. М., 1998- (продолжающееся издание).
- Словарь русского языка — Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 1-. М., 1975-(продолжающееся издание).
- Сосунова (2015) — Сосунова Н.А. Депрессия: найти и обезвредить // Здравоохранение Югры: опыт и инновации. 2015. № 3. С. 5-9.
- Успенский (1971) — Успенский сборник XII-XIII вв. М.: Наука, 1971. 754 с.
- Хайруллина (2017) — Хайруллина Д.Д. Соотношение и взаимосвязь терминов «концепт», «понятие», «значение» в современных исследованиях // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 12 (78). С. 157-161.
- Liddell, Scott (1996) — Liddell H.G., Scott R.. Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon press, 1996. 1551 p.