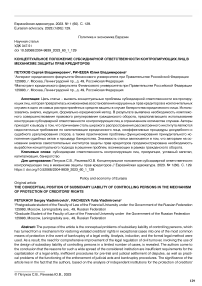Концептуальное положение субсидиарной ответственности контролирующих лиц в механизме защиты прав кредиторов
Автор: Петухов Сергей Владимирович, Рачеева Юлия Владимировна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Политика и экономика Евразии
Статья в выпуске: 1 (60), 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - выявить концептуальные проблемы субсидиарной ответственности контролирующих лиц, которая превратилась из механизма восстановления нарушенных прав кредиторов в исключительных случаях в одно из самых распространённых средств защиты в случае банкротства юридического лица. Использовались анализ, индукция, формально-юридический метод. В результате выявлена необходимость комплексного совершенствования правового регулирования гражданского оборота, предполагающего использование конструкции субсидиарной ответственности контролирующих лиц в ограниченном количестве случаев. Авторы приходят к выводу о том, что причинами столь широкого распространения рассмотренного института являются недостаточные требования по капитализации юридического лица, неэффективные процедуры досудебного и судебного урегулирования споров, а также практические проблемы функционирования принудительного исполнения судебных актов и процедур банкротства. Значимость статьи заключается в том, что авторами на основании анализа самостоятельных институтов защиты прав кредиторов продемонстрирована необходимость выработки концептуального подхода в решении проблем, возникающих в рамках гражданского оборота.
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц, презумпции, уставный капитал, капитализация, банкротство
Короткий адрес: https://sciup.org/140297288
IDR: 140297288 | УДК: 347.51 | DOI: 10.52068/2304-9839_2023_60_1_129
Текст научной статьи Концептуальное положение субсидиарной ответственности контролирующих лиц в механизме защиты прав кредиторов
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц, будучи компенсаторным механизмом в процедуре банкротства [1], является одним из эффективных институтов защиты прав и законных интересов кредиторов. Необходимо отметить, что основой для ее применения является недобросовестность и неразумность в процессе управления юридическим лицом, которое может быть опосредовано исключительно получением прибыли.
Толкуемая ВС РФ субсидиарная ответственность контролирующих лиц в качестве исключительного механизма восстановления нарушенных прав кредиторов (п. 1 Постановления Пленума от 21.12.2017 № 53) в действительности таковой не является. Заслуживает одобрения позиция исследователей, указывающих на необоснованность чрезмерного расширения случаев ее применения [2], а также оправданность лишь в ограниченном количестве случаев [3]. Не последнюю роль в подобном применении играют правовые презумпции, устанавливающие возложение бремени доказывания на контролирующих лиц в случае наличия предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» обстоятельств.
Не вдаваясь в подробности принципиальных отличий рассматриваемого института по сравнению с классической моделью субсидиарной ответственности (ст. 399 ГК РФ), отметим, что в рамках корпоративных правоотношений она связана с отступлениями от соблюдения базовых принципов гражданского законодательства и предполагает использование экстраординарного механизма.
Рассматриваемый институт фактически закрывает пробельность в регулировании инструментов, направленных на надлежащее исполнение обязательств юридическим лицом. Закрепленный в действующем законодательстве принцип отделения имущества юридического лица от его учредителей не соотносится с отсутствием требований для капитализации бизнеса. Кроме того, в настоящее время отсутствует учет масштаба деятельности корпорации в целях определения размера ее уставного капитала. Проблема недостаточной капитализации в рамках субсидиарной ответственности контролирующих лиц рассматривалась А.Н. Захаровым еще в
2014 году при исследовании вопросов снятия корпоративной вуали [4]. Безусловно, указанный вопрос важен для всего гражданского оборота, так как введение дифференцированного подхода при установлении размера уставного капитала позволяет учитывать особенности отдельных сфер деятельности.
Согласно пункту 4 статьи 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае, когда стоимость чистых активов ниже уставного капитала по окончании финансового года, у такого лица возникает обязанность принять решение о ликвидации общества или уменьшении уставного капитала до размера, который не превышает стоимость чистых активов. Вместе с тем каких-либо иных положений, направленных на уменьшение рисков хозяйственной деятельности для кредиторов, действующее законодательстве не предусматривает.
Примечательно, что ВС РФ рассматривает создание общества с минимальным уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей при условии большого объема планируемых мероприятий (например, создание офисного центра) в виде цели контролирующего лица перераспределить риски на случай провала коммерческого проекта (п. 9 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденного 29.01.2020). Представленный подход заслуживает внимания, так как отражает принципиальные недостатки существующего механизма уставного капитала. Возможность осуществления практически любой хозяйственной деятельности без соответствующих требований к капитализации общества не может рассматриваться как нормальная практика.
Как справедливо отмечает Е.А. Суханов, «создавая юридическое лицо с символическим уставным капиталом, предприниматель входит в гражданский оборот, по существу ничем не рискуя» [5, с. 152]. Не вызывает сомнений, что субсидиарная ответственность контролирующих лиц определенным образом трансформировала подобное представление, но в таком случае рассуждения о ее исключительности крайне противоречивы.
Чрезмерное увлечение законодателя и правоприменителя механизмом правового воздействия на уже совершенные противоправные действия или бездействия не является последовательной политикой по защите прав кредиторов.
Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц следует за несоблюдение стандарта надлежащего управления хозяйствующим субъектом. В этой связи ее можно рассматривать с точки зрения недостаточно эффективных процедур досудебного и судебного урегулирования споров. Использование института медиации, мировых соглашений и иных механизмов не является превалирующей практикой по сравнению с судебным разбирательством.
Одной из причин подобной ситуации является слишком низкий уровень государственной пошлины при рассмотрении экономических споров. В результате практически отсутствует какой-либо барьер для обращения в суд по тем делам, где вмешательство государства не всегда целесообразно. Помимо этого, проблема возникает и в случае вынесения положительного для кредиторов судебного акта, так как возможность его исполнения зачастую затруднена. Согласно Мониторингу показателей эффективности деятельности ФССП России за 2022 год, эффективность взыскания по исполнительным производствам имущественного характера составляет 36,5 %. Показательна разница между показателями взыскания налоговой задолженности в пользу бюджетов бюджетной системы (35,6 % и 35,3 % соответственно) и в пользу юридических лиц (11,5 %). Представленная статистика свидетельствует о том, что добиться реального исполнения судебного акта достаточно проблематично. Проблема в данном случае заключается как в перегруженности системы судебных приставов, так и в отсутствии какого-либо необходимого количества активов юридического лица для удовлетворения требований кредиторов. В результате кредиторы вынуждены обращаться к механизму субсидиарной ответственности контролирующих лиц, который позволяет обратить взыскание на их личное имущество. При этом какие-либо иные институты, предусматривающие эффективные средства защиты нарушенных прав, законодатель не предлагает.
В результате невозможность добиться исполнения судебного акта приводит к обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом. Анализ сведений Федресурса позволяет утверждать, что процент удовлетворенных требований кредиторов по делам о банкротстве за период с
01.01.2022 по 31.12.2022 составил 0,001 % – по делам, находящимся в производстве, 0,06 % – по завершенным делам. Как видим, проблема невозможности исполнения судебного акта путем применения процедур банкротства не разрешается, что приводит к необходимости вмешательства в принцип ограниченной ответственности хозяйствующего субъекта.
Спецификой возложения субсидиарной ответственности на контролирующих лиц является применение ряда правовых презумпций, предусмотренных Законом о банкротстве. Наступление определенных событий (утрата документов, их искажение, совершение сделки, повлекшей существенный вред имущественным правам кредиторов, и т. д.) влечет возложение обязанности на контролирующее лицо доказать отсутствие вины в наступлении банкротства общества. Наличие подобного распределения бремени доказывания обосновывается отсутствием у заинтересованных лиц всего необходимого объема информации, которая требуется для установления обоснованности наступления гражданско-правовой ответственности.
Несмотря на это, в течение длительного периода времени рассматриваемый институт, применяемый в случае исключения из ЕГРЮЛ общества в административном порядке (п. 3. 1 ст. 3 Закона об ООО), не предполагал использование аналогичного механизма. Впервые несправедливость такого подхода была указана в Постановлении КС РФ от 21.05.2021 № 20-П, в рамках которого судом фактически введена презумпция вины контролирующего лица хозяйствующего субъекта, исключенного из ЕГРЮЛ, в правоотношениях с кредитором-потребителем. Развивая указанную позицию, орган конституционного контроля в недавнем Постановлении от 07.02.2023 № 6-П дал толкование необходимости применения аналогичного подхода и в отношениях с кредиторами – субъектами предпринимательской деятельности при наличии совокупности следующих обстоятельств:
-
– дело о банкротстве прекращено из-за недостаточности денег для его проведения;
-
– после прекращения дела юридическое лицо было исключено из ЕГРЮЛ;
-
– на момент исключения существовали судебные акты, подтверждающие неисполнение должником обязательства;
-
– кредитор действовал добросовестно;
-
– контролирующее лицо уклонилось от пояснений поведения при управлении компании или представило неполные пояснения.
Положительно оценивая подобные изменения, нельзя не отметить отсутствие концептуального решения проблемы единства в механизме субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Наличие подобного количества условий не может рассматриваться как аналогичное средство защиты интересов кредиторов по сравнению с Законом о банкротстве.
В результате субсидиарная ответственность контролирующих лиц используется государством как наиболее простой выход из ситуации недобросовестного управления хозяйствующим субъектом.
Список литературы Концептуальное положение субсидиарной ответственности контролирующих лиц в механизме защиты прав кредиторов
- Карелина С.А. Субсидиарная ответственность в механизме защиты прав и законных интересов участников отношений несостоятельности: современные тренды // Предпринимательское право. 2022. № 1. С. 10-18.
- Гутников О.В. Субсидиарная ответственность в корпоративных правоотношениях: проблемы и перспективы // Журнал российского права. 2022. № 7. С. 48-67.
- Голубцов В.Г. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц: эволюция законодательных подходов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. № 2. С. 248-273.
- Захаров А.Н. Некоторые вопросы снятия корпоративной вуали: американский опыт и возможности его использования в российском праве // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 10. С. 32-62.
- Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014.