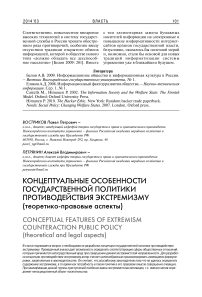Концептуальные особенности государственной политики противодействия экстремизму: теоретико-правовые аспекты
Автор: Востриков Павел Петрович, Петрянин Алексей Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается вопрос о необходимости разработки концепции государственной политики противодействия экстремизму. Проведенный анализ дает возможность определить соответствующие сферы общественных отношений, которым причиняется непосредственный вред при совершении деяний экстремистской направленности. Для разработки концепции противодействия экстремизму автор считает целесообразным проанализировать имеющиеся формулировки, закрепленные в законодательстве. Он считает, что российскому законодателю пока что не удалось определить содержание экстремизма, в то же время потребность в таком понятии в его правовом смысле совершенно очевидна. При квалификации данной группы преступлений особенно важна экстремистская мотивация, т.к. именно мотив определяет непосредственный объект посягательства. Качество и эффективность уголовно-правового противодействия зависят, прежде всего, от возможности определения исчерпывающего круга преступлений экстремистской направленности, а в основу их определения должны быть положены объект и мотив посягательства.
Экстремизм, терроризм, концепция, государство, политика, противодействие, безопасность, конституция, мир, человечество
Короткий адрес: https://sciup.org/170167369
IDR: 170167369
Текст научной статьи Концептуальные особенности государственной политики противодействия экстремизму: теоретико-правовые аспекты
П роводя исследование преступлений экстремистской направленности, мы столкнулись с проблемой отсутствия как в доктрине, так и в законодательстве общепризнанной концепции государственной политики противодействия экстремизму. Существующие подходы указывают на отсутствие критериев, дающих возможность определить границы экстремизма, в т.ч. и его преступной формы, что и является одним из главных условий широкомасштабного распространения данного явления.
Для разработки концепции противодействия экстремизму целесообразно проанализировать имеющиеся формулировки, закрепленные в законодательстве, а также соответствующие понятия, имеющиеся в доктрине.
Бывший генеральный прокурор РФ В.В. Устинов указывал, что отсутствие эффективной нормативной правовой базы противодействия экстремизму в РФ не позволяет защитить российское общество от деструктивного воздействия проявлений экстремизма. Это и стало основной причиной принятия федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»1. Данный документ был призван стать основополагающим нормативным правовым актом в борьбе с политическим экстремизмом [Устинов 2003: 52].
Смысл разработки названного выше документа состоял в создании единого нормативного правового акта, выполняющего координирующую по отношению к отраслевому законодательству функцию в области противодействия противоправ- ным формам экстремизма. В целом эта идея представляется вполне обоснованной, поскольку правовую основу противодействия экстремистской деятельности составляет внушительный пласт законодательства, в котором субъектам правоприменения ориентироваться непросто. Закрепление на федеральном уровне соответствующего понятийного аппарата должно существенно облегчить практику применения норм, направленных на противодействие экстремистской деятельности в РФ [Сергун 2009: 86].
Учитывая, что федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» является основополагающим нормативным правовым актом, регламентирующим противодействие экстремизму, в него должны быть включены все конструктивные признаки изучаемого явления, отражающие его сущность. Однако, к сожалению, он не содержит определение признаков экстремизма, а лишь уточняет перечень видов запрещенной экстремистской деятельности. Такой подход породил проблемы применения как данного закона, так и Уголовного кодекса РФ, т.к. он не дает возможность четко определить круг преступлений экстремистской направленности. При этом критерии, заложенные в самом законе, характеризуются высоким уровнем бланкетности. В частности, признавая террористическую деятельность разновидностью экстремистской, анализируемый нормативный правовой акт отсылает правоприменителя к федеральному закону «О противодействии терроризму»2, который перечисляет виды деятельности, относящиеся к терро ристической .
Однако многие его положения нуждаются, на наш взгляд, в совершенствовании. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» любое деяние, совершенное по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признается экстремистским.
Исходя из вышеизложенного, любое общественно опасное деяние, являющееся преступным, можно отнести к экстремистскому, т.к. данный вид поведения запрещен законом и, соответственно, выступает не просто крайней мерой, а мерой, выходящей за рамки дозволенного, и чаще всего содержит в себе мотивы, закрепленные в ч. 1 ст. 63 УК РФ. Представляется, что данный подход является чересчур радикальным и неправильным, поскольку не отражает особенностей изучаемого явления. Законодатель при создании указанного нормативного правового акта не заложил в него основную концептуальную идею, отражающую непосредственную сущность экстремизма, остановившись лишь на мотивации.
Как справедливо отмечает Е.П. Сергун, в одних случаях законодатель исходит из субъективных, в других – из объективных признаков соответствующих деяний, что ставит под сомнение логичность рассматриваемой дефиниции [Сергун 2009: 91-92].
Изложенное выше позволяет констатировать, что российскому законодателю не удалось определить содержание экстремизма [Александров 2003: 481], что и явилось причиной отсутствия законодательной дефиниции рассматриваемого явления, хотя потребность в определении понятии экстремизма в его правовом смысле совершенно очевидна [Залужный 2002: 31].
Как правильно указывает Е.Г. Чуганов, федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» не содержит также четко сформулированное и общепризнанное определение экстремистской деятельности (экстремизма), фактически закрепляя лишь перечень деяний, замкнутых на уголовных преступлениях или административных правонарушениях, связанных с экстремизмом и терроризмом [Чуганов 2008: 7], что делает данный документ чрезвычайно пробельным и малоэффективным. Реализованный в этом законе подход указывает на то, что до сих пор государство не может определить границы экстремизма, тем самым создавая благоприятные условия для его распространения.
Закрепление в данном нормативном правовом акте конструктивных признаков рассматриваемого явления, нашедших свое отражение в определении экстремизма, исключило бы необходимость уточнения запрещенных законом экстремистских проявлений и усилило бы превентивный характер анализируемого федерального закона.
Ключевым документом, устанавливающим основы противодействия экстремизму, является Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.1 Даже в преамбуле к Основному закону государства указывается на неприятие борьбы, основанной на неравенстве.
Особое значение в предупреждении экстремизма имеет ч. 2 ст. 29 Конституции РФ, в силу которой «не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства» [Чуганов 2008: 7]. Причем сам Основной закон в ст. 55 определяет, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»2, тем самым устанавливая возможные превентивные меры в отношении различных экстремистских проявлений.
Безусловно, Конституция РФ является базовым нормативным правовым актом, определяющим основы государственной политики в области борьбы с экстремизмом. При этом в правовой доктрине существуют два принципиально отличающихся подхода, определяющих роль Конституции России в этом процессе. Первый подход, сторонником которого является Р.С. Тамаев, состоит в том, что вся совокупность конституционных норм, развивающаяся в национальном законо- дательстве, фактически создает основу противодействия экстремизму [Тамаев 2008: 67]. Вторая группа ученых, к которой относится Е.Г. Чуганов, полагают, что соответствующей нормативной базой противодействия экстремизму могут быть лишь отдельные положения Конституции РФ, которые запрещают деятельность, направленную на силовое изменение существующих основ конституционного строя РФ и нарушение ее целостности [Чуганов 2008: 5].
Первый подход представляется справедливым, поскольку Конституция РФ как основной закон государства определяет своей первостепенной задачей организацию нормальной жизнедеятельности и функционирования как государственного аппарата, так и общества и конкретных граждан. Это находит отражение в нормах, закрепленных в Конституции РФ, включая ее преамбулу. Поэтому каждая статья Основного закона содержит в себе положения, прямо или косвенно направленные на противодействие экстремизму.
Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении»1 также содержит в себе нормы, регламентирующие противодействие экстремизму. В соответствии со ст. 3 указанного закона «чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер»2. Сам закон к подобным обстоятельствам относит такие экстремистские акты, как «попытка насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, захват или присвоение власти; вооруженный мятеж; массовые беспорядки; террористические акты; блокирование или захват особо важных объектов или отдельных местностей; подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований; межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающими непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления»3.
Следующим антиэкстремистским нормативным правовым актом следует назвать федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»4. Так, ч. 4 ст. 6 названного закона «запрещает создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону»5. Эта норма носит бланкетный характер, что, с нашей точки зрения, указывает на ее неоднозначность, т.к. бланкетность в науке и практике оценивается в основном критически в связи с неопределенностью границ применения и, соответственно, низкой эффективностью. Полагаем, что следует согласиться с мнением А.В. Денисова, который отмечает, что «использование бланкетного приема законодательной техники создает определенные трудности для правоприменителя» [Денисов 2010: 94-98].
При этом ст. 14 закона устанавливает порядок приостановления деятельности религиозного объединения, ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность религиозного объединения в случае нарушения ими соответствующего законодательства. К числу таких оснований относятся нарушение общественной безопасности и общественного порядка и совершение действий, направленных на осуществление экстремистской деятельности.
Федеральный закон «Об общественных объединениях» в ст. 16 запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности6.
Нарушение установленных требований, закрепленных в ст. 44 указанного закона, является основанием для ликвидации общественного объединения и запрета на его деятельность. Полагаем, что основные положения, закрепленные в названном источнике, являются эффективным инструментом предупреждения группового проявления экстремизма как на стадии организации общественного объединения, так и в процессе осуществления экстремистской деятельности.
Осознание экстремизма как общенациональной проблемы нашло отражение в указе Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.»1, где отмечено, что в будущем получат развитие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в т.ч. под лозунгами религиозного радикализма. Указанное выше является основным источником угрозы национальной безопасности.
Существуют и иные, не упомянутые нами нормативные правовые акты, в т.ч. и федерального уровня, играющие соответствующую роль в противодействии экстремизму на территории РФ и затрагивающие вопросы национальной безопасности (например, федеральный закон «Об обороне»2, Уголовный кодекс РФ3, Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»4 и др.).
Исходя из анализа вышеизложенных нормативных правовых актов, мы приходим к выводу, что основная их масса рассматривает экстремизм, в первую очередь, как угрозу конституционному строю, общественной безопасности, миру и безопасности человечества.
Данное обстоятельство, с нашей точки зрения, дает основание для определения круга общественных отношений, непосредственно страдающих или ставящихся под угрозу причинения вреда при совер- шении преступлений экстремистской направленности, отражающих сущность экстремизма. Это дает возможность определить исчерпывающий перечень исследуемой группы преступлений.
В соответствии с вышеизложенным первой концептуальной особенностью преступлений экстремистской направленности является то, что признаки, характеризующие их, не носят универсальный характер и могут относиться только к деяниям, предусмотренным в гл. 24, 29 и 34 УК РФ.
Анализ законодательства позволяет также заключить, что еще одной особенностью рассматриваемой группы преступлений является специальная мотивация их совершения. В рамках характеристики экстремизма в целом и преступлений экстремистской направленности в частности чаще всего используется формулировка, закрепленная в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ: «совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»5.
Соглашаясь с мнением Е.П. Сергуна, хотелось бы подчеркнуть то обстоятельство, что экстремистская мотивация имеет непосредственное значение не только при квалификации данной группы преступлений, а, в первую очередь, при определении круга преступлений экстремистской направленности, т.к. мотив и определяет непосредственный объект посягательства.
Качество и эффективность уголовноправового противодействия зависят, прежде всего, от возможности определения исчерпывающего круга преступлений экстремистской направленности, а в основу их определения должны быть положены объект и мотив посягательства.