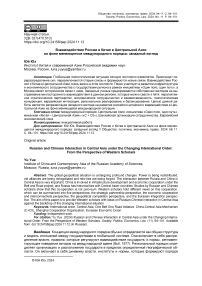Концептуальные проблемы в изучении парламентаризма в России
Автор: Аввакумов А.Е., Васильев А.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена концептуальным проблемам исследования парламентаризма в России. Рассматриваются различные подходы к определению данного термина, его базовые характеристики, а также исторические этапы развития парламентаризма в дореволюционной, советской и современной России. Особое внимание уделено функциональной роли представительного органа в системе государственной власти, взаимодействию с исполнительными структурами и вопросам разделения властей. Анализируются современные подходы к парламентаризму в отечественной науке и роль региональных органов власти в условиях федерального устройства страны. Авторы приходят к выводу о том, что парламентаризм в современной России находится на этапе становления, и для более глубокого понимания его особенностей и роли в политической системе государства необходимы дальнейшие исследования, которые могут составить перспективу научных изысканий в данном направлении.
Парламентаризм, региональные парламенты, разделение властей, федерализм, российская политическая система
Короткий адрес: https://sciup.org/149147007
IDR: 149147007 | УДК: 323:321.72 | DOI: 10.24158/pep.2024.11.13
Текст научной статьи Концептуальные проблемы в изучении парламентаризма в России
взаимодействия между государствами в этом конкретном регионе (Buzan, Waever, 2003: 10–12). На переднем крае меняющегося международного устройства находятся Китай и Россия, причем первый продолжает расти как мировая держава, а вторая вновь позиционирует себя в мировой политике как крупный игрок, особенно после того, как в 2022 г. ею была начата специальная военная операция на Украине. Обе тенденции указывают на изменение международного порядка.
Одна из самых обсуждаемых тем в этом отношении связана с глобальным лидерством США как основным компонентом существующего мироустройства, который теоретики-структуралисты часто называют либеральной гегемонией. Ведутся дебаты о том, заканчивается ли эпоха международного порядка, сформированного Соединенными Штатами; обсуждается, что может прийти ему на смену (Buzan, Waever, 2003: 10–12). В частности, в определении альтернативы нового мироустройства много внимания уделяется роли Китая (Xuetong, 2020; Johnston, 2019). Однако однозначного ответа на вопрос о том, как выглядит международный порядок под руководством КНР, пока нет. При всем этом ее стремительное экономическое развитие заставляет мировое сообщество считаться с мнением Поднебесной.
В этом контексте взаимодействие России и Китая в Центральной Азии, геополитически значимом регионе, является важной частью модели международных отношений. Изучение его способствует глубокому пониманию связи между региональным и международным порядком, особенно в период изменений, а также возможного влияния российско-китайского взаимодействия в Центральной Азии на динамику силы, нормотворчество и правила межгосударственного поведения в регионе, что имеет большое значение для всестороннего понимания тенденции эволюции международного порядка. Исследование российско-китайского взаимодействия в Центральной Азии с точки зрения западных ученых призвано обеспечить уникальную, нероссийско-китайскую перспективу изучения международного порядка. На взгляды исследователей часто влияют различные политические, культурные и академические традиции, поэтому через них можно раскрыть те аспекты российско-китайского взаимодействия в Центральной Азии, которые были упущены из виду при анализе с других точек зрения, например, то, как в глазах западных ученых представляется баланс влияния и игра между Россией и Китаем в Центральной Азии в рамках модели распределения международной власти.
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, составляющие регион Центральной Азии, долгое время находились на перекрестке интересов крупных держав, выступая в качестве исторического места встречи Востока и Запада. В современную эпоху геополитическое значение занимаемой ими территории резко возросло не только из-за ее огромных энергетических ресурсов и стратегического расположения, но и вследствие понимания ее как опоры для реализации инициативы «Один пояс, один путь» – амбициозного проекта Китая по развитию инфраструктуры и экономики всех заинтересованных акторов региона. В то же время Россия поддерживает исторические связи с Центральной Азией, уходящие корнями в общее советское прошлое (некоторые даже относятся к имперской эпохе), и продолжает оказывать влияние на государства региона посредством экономического партнерства, сотрудничества с ними в сфере безопасности и в ходе членств в интеграционных международных организациях. Однако в последние годы участие Китая в делах Центральной Азии также значительно возросло. Кроме того, Соединенные Штаты тоже вовлечены в регион из-за своих связей с некоторыми его странами. Например, они взаимодействуют с Узбекистаном в сфере безопасности.
Таким образом, региональный порядок в Центральной Азии является сложным и включает в себя несколько великих держав, что также делает регион интересным предметом исследования.
В целом, многие ученые и политики рассматривают растущее присутствие Китая в регионе как источник возможного будущего конфликта с Россией или как «новую большую игру» (Blank, 2012). Такая характеристика, хотя и, по-видимому, выходит за рамки исторических аналогий, все же имеет свои достоинства в том смысле, что она охватывает взаимодействие великих держав в регионе, что может иметь значительные последствия для глобального международного порядка, и наоборот. Она инкапсулирует сложности мировых сдвигов власти, где сотрудничество и конкуренция переплетаются в формировании региональных связей. Слияние экономической экспансии Китая в сочетании с историческими и современными связями России создает сложную геополитическую местность в регионе. Понимание динамики китайско-российских отношений в Центральной Азии имеет первостепенное значение для анализа более широких тенденций в международных отношениях. Использование исследований западных ученых в качестве отправной точки для анализа взаимодействия России и Китая в Центральной Азии в условиях изменения международного порядка дает возможность оценить ситуацию в регионе с третьей стороны.
В этом контексте целью настоящей работы является рассмотрение западной точки зрения на изменение стратегий поведения Китая и России в совершенствовании регионального и глобального миропорядка, в частности, при взаимодействии с другими великими державами в конкретном регионе – Центральной Азии.
Задачами исследования выступили:
-
– рассмотрение исторического контекста для развития Китая как глобального и регионального игрока, определяющего тенденции экономического и политического взаимодействия в регионе Центральной Азии;
-
– установление предпосылок для усиления влияния России на развитие государств, занимающих его территорию, в контексте ее отношений с Китаем;
-
– репрезентация взглядов западных ученых на взаимодействие Пекина и Москвы в Центральной Азии.
Методами исследования послужили наблюдения за трансформацией современной геополитической ситуации, попытками изменения ориентации мира на многополярность, анализ ретроспективного развития событий в сфере политики и экономики Центральной Азии как значимого в этом отношении региона и территории, объединяющей интересы глобальных игроков, описание, критический анализ обнаруженных публикаций по интересующей нас проблематике, интеграция полученной информации.
Исторический контекст . Суть изучаемой нами проблемы требует установить истоки китайско-российского взаимодействия в Центральной Азии. Распад Советского Союза в 1991 г. не только ознаменовал конец холодной войны, но и открыл возможности для крупных держав пересмотреть свои геополитические стратегии. Китай, переживающий быстрый экономический рост, стремился расширить свое влияние за пределы национальных границ, в то время как Россия, борясь с трудностями переходного периода, пыталась сохранить свое присутствие в стратегически значимых для нее регионах мира. Центральная Азия с ее энергетическими ресурсами, географической близостью обоим государствам и историческими связями с ними стала центром применения их региональных геополитических стратегий.
Инициатива «Один пояс, один путь», представленная миру лидерами Поднебесной в 2013 г., еще больше усилила взаимодействие между Китаем и Центральной Азией. Амбициозный проект направлен на улучшение связей посредством развития инфраструктуры, торговли и инвестиций региона, связывая Китай с Европой через сухопутные и морские пути. Центральная Азия с ее географическим положением вдоль Шелкового пути стала ключевым компонентом инициативы «Один пояс, один путь» (Vakulchuk et al., 2019). Экономические возможности, предоставляемые китайскими инвестициями и инфраструктурными проектами, изменили региональный ландшафт, влияя на политическую и экономическую динамику территории. Инициатива «Один пояс, один путь» выделяется как ключевой фактор участия Китая в регионе, направленный на улучшение связей и содействие экономическому сотрудничеству государств, размещающихся на данной территории (Qoraboyev, Moldashev, 2018). Так, строительство газопроводов, например, по линии «Туркменистан – Китай», способствовало транспортировке энергоресурсов из Центральной Азии в Китай. Этот проект повышает энергетическую безопасность всех государств-акторов, одновременно способствуя их экономическому сотрудничеству. Китай также вложил значительные средства в транспортную инфраструктуру региона, включая железные дороги и автомагистрали, для содействия перемещению товаров между собственной территорией и Центральной Азией. Например, железнодорожный коридор «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» является проектом инициативы «Один пояс, один путь», направленным на улучшение региональной связанности.
Очевидно, что КНР проявляет явный интерес к Центральной Азии из-за ее важного местоположения для реализации проектов инициативы «Один пояс, один путь». Одной из вех на пути к установлению более тесных дипломатических связей стал саммит «Китай – Центральная Азия», прошедший в мае 2023 г. в Сиане (КНР), что само по себе посылает четкий сигнал другим странам о том, что Китай является важным игроком в регионе. Это дополнительно подтверждается в совместном заявлении участников после завершения саммита1, согласно которому и Китай, и страны Центральной Азии обещают повысить уровень сотрудничества и далее институционализировать его в областях экономики, безопасности, а также культурного обмена.
Влияние России на развитие Центральной Азии. Данный факт имеет глубокие исторические корни, восходящие к XIX в., когда регион попал под контроль империи. Создание Туркестанской губернии в конце 1800-х гг. ознаменовало появление стратегических интересов Москвы в Центральной Азии. В советское время республики региона входили в состав интеграционного образования – Советского Союза, и Москва поддерживала жесткий контроль над политическими, экономическими и социальными структурами данных стран. С распадом СССР в 1991 г. государства Центральной Азии обрели независимость, и Россия столкнулась с проблемой перестройки своих отношений с ними. В первые постсоветские годы на территории региона наблюдалось сложное переплетение экономических связей, мер безопасности и политических тенденций. Россия стремилась сохранить свое влияние в Центральной Азии через Содружество Независимых Государств (СНГ) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подчеркивая свою нацеленность на сотрудничество в сфере безопасности с бывшими советскими государствами.
Россия также стремилась подтвердить свое влияние на постсоветском пространстве, выдвинув Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве противовеса экономической интеграции, предлагаемой Китаем (Wilson, 2018). По мере роста экономического присутствия в регионе КНР она пытается использовать свои исторические и культурные связи и партнерства в сфере безопасности, чтобы сохранить значительную роль в формировании траектории развития региона. Москва поддерживает экономические связи с государствами Центральной Азии, особенно в энергетическом секторе. Регион обладает значительными ресурсами нефти и природного газа, и Россия участвует в совместных межгосударственных предприятиях и соглашениях по их добыче и транспортировке. Газопровод «Центральная Азия – Центр», соединяющий Туркменистан с Россией, является примером этой экономической взаимозависимости государств.
Кроме того, ландшафт безопасности Центральной Азии остается приоритетом для Москвы. Наличие военных баз, например, в Таджикистане, подчеркивает приверженность России региональной безопасности. ОДКБ служит платформой для сотрудничества в этой области, решая общие проблемы, с которыми сталкивается Россия в плане сохранения своего влияния, поскольку другие внешние игроки, в частности, Китай, увеличивают свое экономическое и стратегическое присутствие в Центральной Азии. Однако Москва также видит возможности для сотрудничества с Поднебесной за счет членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и продвижения экономических инициативы, таких как «Один пояс, один путь».
С введением жестких экономических санкций против России со стороны Запада после начала ею специальной военной операции на Украине зависимость Москвы от Пекина растет. Поворот на Восток стал безальтернативным из-за практически полного разрыва не только политических, но и экономических отношений страны с коллективным Западом1. Следовательно, определенные сдвиги в сторону более терпимого и кооперативного направления с Китаем в политике России в Центральной Азии стали весьма заметными и способствовали изменениям в региональном порядке2.
Репрезентация взаимодействия Китая и России в Центральной Азии в западной научной литературе . В контексте выстраивания международных отношений в Центральной Азии взаимодействие между Китаем и Россией всегда было объектом внимания мирового академического сообщества. Многие западные ученые, исходя из различных теоретических перспектив и исследовательских рамок, обращают свое внимание на изменение расстановки сил в регионе, а изучение результатов их научных изысканий позволяет составить целостную картину изменений в Центральной Азии в отрыве от субъективности. Взгляды западных ученых на взаимодействие Китая и России в регионе можно свести к пяти различным обозначениям: стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и взаимосвязанность, геополитическая конкуренция, евразийская интеграция и региональное балансирование.
Научная литература изобилует публикациями, которые представляют стратегическое партнерство между Китаем и Россией как стабилизирующую силу в Центральной Азии (Hoh, 2019; Wil-helmsen, Flikke, 2011; Laruelle, 2010). Сам термин «стратегическое партнерство» происходит из официальных источников Китая и России. Некоторые исследователи утверждают, что обе державы, преследуя собственные интересы, имеют общее понимание региональных проблем безопасности. Эта точка зрения предполагает, что китайско-российское сотрудничество способствует стабильности Центральной Азии в контексте защиты от терроризма и, что еще важнее, ограничения влияния Соединенных Штатов (Zaheer et al., 2023). Эта точка зрения в целом репрезентирует сотрудничество между Китаем и Россией в регионе как часть более широкой стратегии глобального взаимодействия. Следовательно, отдельные трения и разногласия двух этих стран здесь не будут существенно препятствовать их сотрудничеству на глобальном уровне. Это относительно позитивная точка зрения ученых на динамику отношений между Китаем и Россией. Однако можно также утверждать, что при этом они упускают из вида глубинную напряженность в контактах и расходящиеся интересы двух держав.
Что касается перспективы экономического сотрудничества и взаимосвязанности, значительная часть публикаций фокусируется на экономических аспектах участия Китая в судьбе Центральной Азии через инициативу «Один пояс и один путь» (BRI). Ученые, рассматривающие китайско-российские отношения в регионе с точки зрения взаимосвязанности, подчеркивают преобразующее влияние китайских инвестиций и инфраструктурных проектов, утверждая, что они не только усиливают региональную интеграцию, но и стимулируют экономическое развитие государств в Центральной Азии (Anwar, 2011; Vakulchuk, Overland, 2019; Martynenko, Parkhitko, 2019; Sergi et al., 2019; Freeman, 2018). Этот тип анализа обычно основан на эмпирике и дает хорошее понимание социально-экономической ситуации в регионе. Хотя мнения, формирующие эту точку зрения ученых относительно уровня успеха и будущих перспектив такой коммуникации двух держав, могут различаться, они образуют общую структуру политико-экономической динамики региона. Вместо таких институтов, как ШОС, ученые уделяют больше внимания отдельным связям и экономическим проектам, таким как BRI. Последствия для стран Центральной Азии, вовлеченных в инициативу «Один пояс и один путь», в целом положительны и взаимовыгодны, но это также может привести к потенциальной потере Россией своих экономических привилегий в регионе. Такое положение дел, по мнению некоторых ученых, может стать камнем преткновения для китайско-российского экономического сотрудничества в регионе (Gabuev, 2016). Хотя эта точка зрения дает представление о центральном столпе отношений Пекина и Москвы в регионе, сосредоточения исключительно на экономических вопросах может быть недостаточно для понимания сложности отношений двух государств. Безопасность и глобальные процессы по-прежнему важны в этом контексте, но они редко обсуждаются в этой группе публикаций.
Некоторые ученые утверждают, что геополитическая конкуренция определяет взаимодействие между Китаем и Россией в Центральной Азии. Подобно перспективе стратегического партнерства, эта концепция учитывает не только «новую холодную войну» на глобальном уровне, но и «новую большую игру» – на региональном (Skalamera, 2017; Blank, 2012; Kim, Indeo, 2013). Выведенная из более реалистичной точки зрения, эта перспектива подчеркивает геополитическую конкуренцию и обычно репрезентирует предостережение, предполагая, что китайско-российские отношения в Центральной Азии могут быть не только кооперативными. Признавая элементы совместности, она поднимает вопросы о потенциале развития в регионе сценария, согласно которому Китай и Россия будут конкурировать за геополитические выгоды на его территории. Однако эту перспективу можно критиковать за чрезмерное упрощение сложностей отношений двух держав, нивелирование областей их взаимных интересов и сотрудничества на более высоких уровнях за пределами региона.
Еще одним интересным образцом анализа динамики отношений между Китаем и Россией в Центральной Азии является представление исследователями перспективы евразийской интеграции. Для многих ученых Центральная Азия является загадкой из-за отсутствия на ее территории региональных организаций и институтов, в отличие, например, от Европы или Юго-Восточной Азии. Участие в ее судьбе внешних субъектов, таких как Россия и Китай, способствовало провалу концепции регионализации (Kazantsev et al., 2021; Buranelli, 2021; Krapohl, Vasileva-Dienes, 2020). Особое внимание исследователями уделяется напористости России в сохранении уровня своего влияния в регионе посредством таких инициатив, как ЕАЭС. По их мнению, такие действия можно рассматривать как попытки восстановить форму региональной гегемонии, потенциально ограничивая деятельность государств Центральной Азии. Эффективность и добровольное участие их в подобных региональных проектах способны стать предметом пристального внимания научной общественности.
Наконец, некоторые ученые утверждают, что государства Центральной Азии стремятся к балансированию в отношениях между Китаем и Россией. Сторонники этой перспективы подчеркивают, что страны региона пытаются максимизировать свои экономические выгоды и гарантии безопасности, избегая при этом неоправданной зависимости от обеих держав (Contessi, 2016; Matveeva, 2013; Allison, 2004). Данный подход можно критиковать за то, что его приверженцы не вникают в проблемы и компромиссы, с которыми сталкиваются эти государства в своем стремлении к балансу. Вопрос о том, насколько устойчивым и эффективным является эта стратегия в долгосрочной перспективе, остается критически важным моментом для рассмотрения научным сообществом.
Заключение . Таким образом, в контексте меняющегося миропорядка следует подчеркнуть повышение роли России и Китая в сохранении региональной стабильности. При этом каждая из стран преследует свои интересы на определенных территориях, значимых для них в геополитическом пространстве.
В настоящее время понимание сложной динамики российско-китайского взаимодействия в Центральной Азии требует изучения множества точек зрения на нее, отраженных в исследованиях представителей мирового научного сообщества, включая пять основных: стратегического партнерства, экономического сотрудничества, геополитической конкуренции, евразийской интеграции, а также регионального балансирования. Перспектива стратегического партнерства отражает общее понимание проблем безопасности и представляет сотрудничество между Россией и Китаем как силу, способствующую достижению региональной стабильности, особенно на таких платформах, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), организации борьбы с терроризмом и ограничению влияния США. Перспектива экономического сотрудничества фокусируется на том, как сказывается реализация китайской инициативы «Пояс и путь» на экономике Центральной Азии. Перспектива геополитической конкуренции предупреждает, что китайско-российские отношения не являются полностью кооперативными и что конкуренция может возникнуть из-за конфликта интересов. Эта точка зрения прогнозирует «новую холодную войну» и «новую большую игру» и ставит вопрос о том, является ли сотрудничество между Россией и Китаем в Центральной Азии действительно устойчивым. Евразийская интеграционная перспектива рассматривает влияние внешних сил на региональную интеграцию, утверждая, что в Центральной Азии отсутствует настоящая организация, объединяющая территориально сопряженные государства, и что участие внешних сил, таких как Китай и Россия, препятствует региональной интеграции. Сторонниками данной перспективы подчеркивается, что Россия сохраняет свое влияние на регион через Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и этим ограничивает автономию стран Центральной Азии. Наконец, в рамках концепции регионального реагирования и баланса утверждается, что центральноазиатские государства занимают неустойчивую позицию между Россией и Китаем и взаимодействуют с ними с целью получения максимальной экономической выгоды и обеспечения национальной безопасности.
В целом, представленные точки зрения западных ученых составляют многомерную аналитическую структуру, необходимую для понимания китайско-российского взаимодействия в Центральной Азии, раскрывая сложные отношения между государствами – участниками регионального сотрудничества. Репрезентация взаимодействия между Китаем и Россией в Центральной Азии с точки зрения западных исследователей-аналитиков позволяет понять отношение третьих сторон к процессам, протекающим в обозначенном регионе не без помощи России и Китая, и спроецировать их на глобальный контекст.
Список литературы Концептуальные проблемы в изучении парламентаризма в России
- Авакьян С.А. Федеральное Собрание - парламент России. М., 1999. 432 с.
- Булаков О.Н. Становление российского парламентаризма // Образование и право. 2021. № 9. С. 62-66. https://doi.org/10.24412/2076-1503-2021 -9-62-66.
- Булаков О.Н. Суверенитет парламента // Образование и право. 2023. № 5. С. 70-73. https://doi.org/10.24412/2076-1503-2023-5-70-73.
- Бурцев А.В. Роль законодательной власти в политической жизни России // Сборник трудов 82-й студенческой научно-практической конференции. Воронеж, 2023. С. 24-27.
- Волгин Е.П. Становление органов государственной власти субъектов РФ в 1990-е гг. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2012. № 3. С. 48-63.
- Гельман В.Я. Региональная власть в современной России: институты, режимы и практики // Полис. Политические исследования. 1998. № 1. С. 87-105.
- Григорьев Н.А., Захаров А.Н. Развитие нормативно-правовой базы функционирования региональных парламентов в современной России // Вестник Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова. Серия: Общественные науки. 2023. № 3. С. 67-72. https://doi.org/10.25587/2587-5612-2023-3-67-72.
- Демидов М.В. Конституционно-правовые основы организации и функционирования органов публичной власти в Российской Федерации // Вестник Российского университета кооперации. 2023. № 2 (52). С. 81-86.
- Жучаев А.А. Особенности парламентаризма в России: Конституционно-правовой статус, компетенции и задачи // Вестник экономики, управления и права. 2024. Т. 17, № 1. С. 78-85.
- Лазаревский Н.И. Русское государственное право. СПб., 1913. Т. I. Конституционное право. 672 с.
- Медведева Т.П. Правовой статус Совета Федерации в свете поправок к Конституции Российской Федерации // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2020. № 3 (51). С. 195-200. https://doi.org/10.36511/2078-5356-2020-3-195-200.
- Мишин А.А. Центральные органы власти буржуазных государств. М., 1972. 285 с.
- Мурычев К.В. Система представительных органов власти в Российской Федерации. М., 2006. 239 с.
- Писарев А.Н. Российская модель формы правления в свете конституционной реформы 2020 года: Президентская или полупрезидентская республика // Образование и право. 2020. № 9. С. 20-28. https://doi.org/10.24411/2076-1503-2020-10902.
- Пронин П.А. Влияние конституционных поправок на развитие парламентаризма в Российской Федерации // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, социальные науки. 2022. № 1. С. 96-98.
- Рыбакова С.С. Особенности формирования региональных парламентов в субъектах РФ // Среднерусский вестник общественных наук. 2016. Т. 11, № 3. С. 69-76. https://doi.org/10.12737/20387.
- Соколов К.Н. Парламентаризм. Опыт правовой теории и парламентского строя. СПб., 1912. 432 с.
- Титов С.А. Понятие парламентаризма в России // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2014. № 4. С. 15-24.
- Сравнительное конституционное право / ред. В.И. Чиркин. М., 1996. 728 с.
- Шульженко Ю.Л. Понятие «парламентаризм» в современной отечественной науке // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2018. Т. 12, № 5. С. 14-36.
- Шульженко Ю.Л. Поправки 2020 года в Конституцию Российской Федерации и парламентаризм // Пробелы в российском законодательстве. 2023. Т. 16, № 2. С. 48-54.