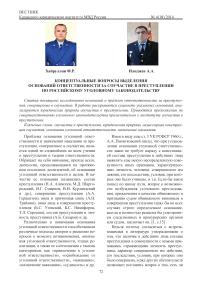Концептуальные вопросы выделения оснований ответственности за соучастие в преступлении по российскому уголовному законодательству
Автор: Хайруллин Ф.Р., Илиджев А.А.
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовный процесс, ОРД и криминалистика
Статья в выпуске: 4 (18), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию оснований и пределов ответственности за преступления, совершенные в соучастии. В работе раскрывается сущность указанных оснований, анализируется юридическая природа соучастия в преступлении. Приводятся предложения по совершенствованию уголовного законодательства применительно к институту соучастия в преступлении.
Соучастие в преступлении, юридическая природа, акцессорная конструкция соучастия, основания уголовной ответственности, назначение наказания
Короткий адрес: https://sciup.org/142197731
IDR: 142197731
Текст научной статьи Концептуальные вопросы выделения оснований ответственности за соучастие в преступлении по российскому уголовному законодательству
Проблема основания уголовной ответственности и назначения наказания за преступление, совершенное в соучастии, является одной из сложнейших во всем учении о преступлении и теории ответственности. Обращает на себя внимание, прежде всего, дискуссия, продолжающаяся на протяжении последних десятилетий, об основании уголовной ответственности в целом. В качестве ее основания назывались состав преступления (Н.А. Алексеев, М.Д. Шарго-родский, В.Г. Смирнов, В.И. Курляндский и др.), совершение преступления (А.А. Герцензон), вина и причинная связь (А.Н. Трайнин), вина лица в совершении преступления (Б.С. Утевский, Б.С. Никифоров, Т.Л. Сергеева), состав преступления и личность преступника (А.Б. Сахаров) и др.
Разночтению в понимании основания уголовной ответственности способствовали различные подходы авторов к решению вопросов о моменте возникновения, окончания уголовной ответственности, этапах реализации, а также ее соотношения с такими категориями, как «привлечение к уголовной ответственности», «освобождение от уголовной ответственности», «наказание», «назначение наказания», «судимость» и др.
Имея в виду еще ст. 3 УК РСФСР 1960 г., А.А. Пионтковский писал, что при установлении основания уголовной ответственности закон не требует наряду с констатацией состава преступления в действиях лица выявлять еще некую неопределенную совокупность иных признаков, характеризующих личность человека, совершенного им деяния, его последствия, условия, при которых оно было учинено, и т.п. Если бы закон пошел по иному пути, вопрос о возможности возбуждения уголовного преследования, привлечения в качестве обвиняемого и признания судом обвиняемого виновным в совершении преступления терял бы во всех случаях строго определенное основание, всегда и полностью решался бы усмотрением следственных и прокурорских органов или судом, заключает он. [1, с.15]
Нельзя поэтому согласиться с встречающимися в литературе утверждениями о том, что наличие в действиях лица состава преступления в совокупности с иными признаками, отражающими личность преступника, характер совершенного им действия, его последствия, условия, при которых оно было совершено, и ряд других обстоятельств позволяют поставить вопрос о том, есть ли основание для привлечения того или иного лица к уголовной ответственности. [2, с.44]
В данном случае, как нам представляется, допускается смешение основания уголовной ответственности и основания назначения наказания. Эти категории, как справедливо отмечается в литературе, не являются тождественными. [3, с.14, 85] Согласно ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК. В отличие от УК РСФСР 1960 г. (ч. 1 ст. 3), в приведенном определении нет упоминания о виновно совершенном деянии. И в этом, на наш взгляд, нет необходимости, поскольку обязательным признаком преступления является виновность (ч. 1 ст. 14 УК РФ) и таким же неотъемлемым признаком любого состава преступления выступает вина в форме умысла или неосторожности (ч. 1 ст. 24 УК).
Положения ст.8 УК РФ об основании уголовной ответственности следует толковать в системе с другими нормами, в частности, регламентирующими общие начала и специальные правила назначения наказания, условное осуждение, освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказания, принудительные меры воспитательного воздействия и др.
Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, – это тот фактический и юридический минимум, при наличии которого суд может положительно решить вопрос об уголовной ответственности. Однако каким образом будет реализована ответственность и будет ли она вообще реализована (например, при освобождении от уголовной ответственности), зависит от обстоятельств, находящихся за пределами состава преступления. Находясь за пределами основания уголовной ответственности, последние, тем не менее, оказывают влияние на решение вопроса о привлечении к уголовной ответственности – либо освобождении от нее, либо выборе различных форм ее реализации.
Нельзя поэтому согласиться с попытками искусственного расширения содержания уголовной ответственности путем включения в нее ограничений уголовно-процессуального характера, применяемых к лицу, совершившему преступление, судимости, освобождения от уголовной ответственности, [4, с.40, 87, 71, 92-196] а также с выводом о том, что уголовная ответственность начинается с момента совершения преступления или возбуждения уголовного дела либо привлечения виновного в преступлении в качестве обвиняемого. [5, с. 25, 39, 17, 11, 50, 153]
Юридическое, а не только фактическое основание может быть окончательно установлено только в обвинительном приговоре суда, сначала провозглашенном и затем вступившем в законную силу, поэтому применение мер уголовно-процессуального пресечения имеет своим основанием другие обстоятельства и преследует иные цели, чем реализация уголовной ответственности. Не может и судимость охватываться понятием уголовной ответственности, поскольку ее основанием является осуждение (реальное или условное) к наказанию.
Теоретические положения, касающиеся понятия, содержания, возникновения, форм реализации и прекращения уголовной ответственности имеют непосредственное значение для решения куда более сложных специальных вопросов, касающихся основания и пределов ответственности и назначения наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Наиболее принципиальной проблемой ответственности за соучастие в преступлении является степень самостоятельности или зависимости ответственности соучастников от ответственности и наказания исполнителя преступления. Так, И.П. Малахов еще в 1960 г. писал, что в поведении соучастников нет состава преступления и им вменяется состав преступного действия исполнителя, поскольку они облегчают его деяние. [6, с.14] Но спрашивается, если нет в действиях соучастников состава преступления, то на каком основании их можно привлекать к уголовной ответственности? Если бы это было так, то подобная практика была бы в явном противоречии с наиболее принципиальным положением российского уголовного законодательства, согласно которому основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содер- жащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК.
С одной стороны, соучастие в преступлении является особой формой преступной деятельности, поскольку в этих случаях происходит объединение усилий двух или большего количества лиц, и в то же время в нормах Особенной части УК РФ преимущественно отражаются признаки преступления, совершенного одним лицом. С другой – оно не создает каких-то особых, принципиально иных оснований уголовной ответственностью по сравнению с действиями лица, индивидуально совершившего преступление. На соучастников, отмечает В.С. Комиссаров, распространяются общие принципы ответственности по уголовному праву, согласно которым «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления». Данное положение, считает он, имеет принципиальное значение как при установлении уголовной ответственности за единоличные действия, так и при установлении уголовной ответственности за совершение преступления в соучастии. [7, с.428-429] Основанием уголовной ответственности соучастников, еще ранее отмечал П.Ф. Тельнов, является наличие в их действиях состава преступления, характеризуемого в Особенной и Общей части УК. Из этого обстоятельства, продолжает он, следует, что состав одного и того же преступления имеется в деяниях каждого соучастника и они несут ответственность на едином основании. Единство это является следствием причинения соучастниками общего преступного результата, и внешне оно выражается в применении к их действиям одной и той же нормы Особенной части Уголовного кодекса, [8] в установлении для них равных пределов наказания и в ответственности каждого соучастника за совместный преступный результат. [9, с.139]
Анализ действующего законодательства и судебной практики [10] показывает, что многие конкретные вопросы ответственности соучастников упираются в более общую проблему – юридическую природу соучастия, которая «неожиданно» приобрела в литературе актуальное значение.
В советский период подавляющее большинство ученых весьма критически оценивали акцессорную конструкцию соучастия, объявляя ее не только антинаучной, но и реакционной. Господствующим в теории советского уголовного права было мнение о самостоятельном характере ответственности соучастников наряду с ответственностью исполнителя.
Сущность акцессорной природы соучастия состоит в том, что центральной фигурой соучастия признается исполнитель, действия других соучастников носят несамостоятельный характер, а их ответственность полностью производна, зависима от ответственности исполнителя.
Несмотря на «буржуазное происхождение» акцессорной концепции соучастия, она нашла поддержку у некоторых советских авторов еще в 60-х годах минувшего столетия. Как уже отмечалось, И.П. Малахов определял соучастие как «умышленное участие одного лица в преступном деянии другого». Фактически он допускал ответственность соучастников за «чужой» состав преступления. [11, с.15] В поддержку акцессорной теории выступил М.И. Ковалев. Он, в частности, указал, что «то обстоятельство, что принцип акцессорной природы соучастия впервые выдвинут в буржуазной науке уголовного права, равным счетом ничего не может доказать». Отрицание акцессорно-сти, по его мнению, является отражением в советском уголовном праве социологических и антропологических воззрений. На самом же деле «советскому уголовному законодательству свойственно признание акцессорной природы соучастия», а «без исполнителя нет соучастия». [12, с.87]
В последующем этот вывод был поддержан и рядом других ученых. А.В. Наумов отмечает, что категорическое отрицание теории соучастия в советской уголовно-правовой литературе в определенном смысле было парадоксальным, так как советское уголовное законодательство, начиная с 1958 г., в основном было построено на акцессорной теории соучастия и отражало ее основные черты. Так обстоит дело и в связи с принятием нового УК РФ. «Поэтому, – заключает А.В. Наумов, – в настоя- щее время можно признать (с некоторыми оговорками), что в основе ответственности соучастников по российскому уголовному законодательству лежит именно акцессорная теория». [13, с.308] Ф.Р. Сундуров, И.А. Тарханов, М.В. Талан, Л.В. Бакулина в рецензии на его курс лекций по уголовному праву признают, что нельзя полностью отрицать рациональные зерна, заложенные в акцессорном взгляде на соучастие. [14, с.191]
В пользу признания акцессорной природы соучастия в литературе приводятся следующие аргументы. Во-первых, объективная сторона преступления выполняется исполнителем, поэтому ответственность соучастников ставится в зависимость от ответственности исполнителя. Во-вторых, действия соучастников квалифицируются по статье Особенной части УК, которая предусматривает ответственность за преступное деяние, совершенное исполнителем (правда, со ссылкой на ст. 33 УК). В-третьих, организатор, подстрекатель и пособник несут ответственность за соучастие и в тех случаях, когда исполнителем является лицо, специально указанное в соответствующей статье Особенной части УК РФ. В-четвертых, в случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на то преступление, которое стремился совершить исполнитель. [15, с. 308-339, 151]
Однако не все российские авторы отказались от традиционно критического взгляда на акцессорную теорию соучастия. «В уголовном праве положения акцессорной теории, – пишет Н.Ф. Кузнецова, – неприемлемы, поскольку наше законодательство рассматривает соучастие как совместную преступную деятельность, в процессе которой каждый участник вносит определенный вклад в преступление и соответственно отвечает не за действия исполнителя, а за свои собственные действия, которые представляют общественную опасность в силу того, что они причинно и виновно связаны с общественно опасным деянием». [16, с.205]
На наш взгляд, заслуживают признания доводы как сторонников, так и оппонентов акцессорного взгляда на соучастие в преступлении. В принципе не может быть, с одной стороны, абсолютной зависимости ответственности соучастников от ответственности исполнителя, так и абсолютной ее самостоятельности, с другой. В самом определении соучастия как умышленного совместного участия двух или более лиц в совершении умышленного преступления заложено определенное диалектическое противоречие зависимости и самостоятельности ответственности соучастников от действий исполнителя.
Поскольку объективная сторона преступления выполняется исполнителем, в этом смысле ответственность соучастников ставится в зависимость от ответственности исполнителя, их действия, как правило, квалифицируются по той же статье Особенной части УК РФ (правда, со ссылкой на ст. 33 УК РФ), что и действия исполнителя. В этом смысле соучастники следуют судьбе исполнителя.
В то же время в основании ответственности каждого из соучастников лежат их собственные (а не чужие) действия; они отвечают в зависимости от характера и степени фактического участия в совершении преступления. Иначе говоря, соучастники отвечают не за «чужой» состав преступления (исполнителя), а за фактически совершенное деяние, подпадающее под состав организации, подстрекательства или пособничества совершению конкретного преступления, содержащий в себе признаки, предусмотренные диспозицией соответствующей статьи Особенной части и ст. 33 УК РФ.
Нельзя полностью обосновать ответственность соучастников на основе классической теории акцессорности соучастия еще и потому, что ответственность по российскому уголовному праву определяется на основе принципа субъективного вменения, то есть вменения лицу только таких действий, которые совершены им лично и виновно. В принципе, поэтому невозможно ставить вопрос о привлечении соучастников к ответственности за действия исполнителя.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уголовное законодательство России отражает лишь отдельные элементы акцессорной теории соучастия. Утверждение о том, что оно полностью исходит из акцессорной природы соучастия, было бы не соответствующим действительности и игнорированием существенной специфики ства. Только при таком понимании природы соучастия и можно, на наш взгляд, правильно уяснить многочисленные вопросы уголовной ответственности и назначения наказания за него.
отечественного уголовного законодатель-
Список литературы Концептуальные вопросы выделения оснований ответственности за соучастие в преступлении по российскому уголовному законодательству
- Курс советского уголовного права в шести томах. Т II. М.:Наука, 1970.
- Уголовное право. Общая часть. М., 1966.
- Курс советского уголовного права в шести томах. Т.II. М.: Наука, 1970. С.14.
- Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного права. Избранные статьи (1982-1999 гг.) Ярославль, 1999.
- Уголовное право России. Общая часть/под ред. В.П. Малкова и Ф.Р. Сундурова. Казань, 1994.
- Уголовное право. Общая часть. М.: Институт МВД РФ, 1997.
- Уголовное право. Общая часть. М.: Норма, 1997.
- Курс уголовного права. Общая часть. Т.1. М.: ЗЕРЦАЛО, 1999.
- Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основания в советском уголовном праве. М., 1963.
- Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления.-М., 1984.
- Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. Минск, 1976.
- Звечеровский И.Э. Уголовная ответственность. Иркутск, 1992.
- Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. Л., 1982.
- Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. Л., 1965.
- Малахов И.П. Соучастие в воинских преступлениях в свете общего учения о соучастии по советскому уголовному праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1960.
- Курс уголовного права. Общая часть. Т.1. М.: Зеркало, 1999.
- Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М.: Юридическая литература, 1974.
- О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. (в ред. от 3.04.2008 г.).
- О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. (в ред. от 23.12.2010 г.) (п. 10).
- О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. (п.16).
- Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Часть 1. Понятие соучастия. Свердловск, 1960.
- Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.: БЕК, 1996.
- Сундуров Ф.Р., Тарханов И.А., Талан М.В., Бакулина Л.В. Рецензия: А.В. Наумов, Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.: БЕК, 1996//Ученые записки Казанского ун-та. Том 133. Юридические науки. Казань, 1998.
- Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: курс лекций. М.: БЕК, 1996.
- Зайнутдинова А.Р. Ответственность за организованные формы соучастия по российскому уголовному праву и др.
- Уголовное право. Общая часть под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ю.М. Ткачевского и Г.Н. Борзенкова. М.: Изд-во Московского ун-та, 1993.