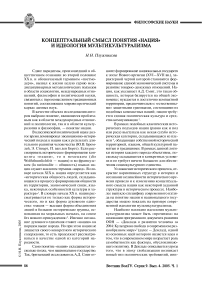Концептуальный смысл понятия «нация» и идеология мультикультурализма
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14967562
IDR: 14967562
Текст статьи Концептуальный смысл понятия «нация» и идеология мультикультурализма
Сдвиг парадигмы, произошедший в общественном сознании во второй половине XX в. и обозначаемый термином «постмодерн», вызвал к жизни целую серию междисциплинарных методологических подходов в области социологии, международных отношений, философии и политической науки, связанных с переосмыслением традиционных понятий, составляющих мировоззренческий каркас данных наук.
В качестве объекта исследования автором выбрано понятие, являющееся проблемным как в области международных отношений и политологии, так и в области культурологии и философии, — понятие нации.
В классической политической науке долгое время доминировал эволюционно-исторический подход к нации как к результату длительного развития человечества (Ю.В. Бромлей, Э. Стюарт, П. ван ден Берге). Если рассматривать историческое формирование концепта «нации», то в немецком (die Wolfsthumlichfeit — нация) и во французском (la nationalite — общность) языках нация служит аналогом термина «народ». В словаре начала XIX в. нация определяется как «историческая общность людей, складывающаяся в процессе формирования общности их территории, экономической связи, языка, некоторых особенностей культуры и характера»1. В словаре начала XX в. нация рассматривается не только как форма исторического, но и как форма духовного единства: «нация — высшая форма объединения людей в большие исторические группы, основанная на моральных началах, на союзе без всякого принуждения»2. Именно осознание духовного единения ставит «нацию» на порядок выше народа. Но при этом нация не лишается своего конкретного исторического содержания, то есть продолжает рассматриваться в качестве одной из категорий народности.
Само понятие «нация» складывается несколько позже, чем национальное государство. Так, британский исследователь А.Д. Смит от носит формирование национальных государств к эпохе Нового времени (XVI—XVII вв.), характерной чертой которой становится формирование единой экономической системы и развитие товарно-денежных отношений. Нация, как указывает А.Д. Смит, это такая общность, которая базируется на общей экономике; нуждается в достаточно компактной территории, предпочтительно с «естественными» защитными границами, состоящими из подобных компактных наций; нации требуется единая политическая культура и средства коммуникации 3.
В рамках подобных классических исторических подходов нация (равно как и пол или раса) выступала как некая сугубо историческая категория, складывающаяся из племен 4, обладающая собственной исторической территорией, языком, общей культурной памятью и традициями. В рамках данной логики история каждого народа объективна, поскольку складывается в конкретных условиях и не требует ничего большего для обеспечения социокультурного единства.
Усложнение исторического процесса, открытие вариативных структур в истории и осознание нелинейности исторического времени привело и к изменению концептуального смысла нации как некоторой заданной структуры в историческом процессе. Наиболее выпукло специфику современного взгляда на понятие нации и национального государства можно показать на примере современной идеологии мультикультурализма.
Наиболее наглядно идеология мультикультурализма может быть «прочитана» на основании программного документа развития ООН — «Доклада о развитии человека за 2004: Культурная свобода в современном разнообразном мире»5 (далее — Доклад), одной из основных идей которого является идея о том, что в современном мире возрастает роль самобытности как фактора, обусловливающего политику. В Докладе описывается угроза того, что в эпоху глобализации возникает новый тип политических требований, ини- циаторами которых становятся индивиды, общины и даже целые государства, которые чувствуют, что их традиционные культуры исчезают с лица земли. Поэтому делается вывод о том, что различные культуры представляют собой нечто изначальное и нуждаются в культурной свободе. «Эта идея достаточно проста, — пишут авторы, — но она так и не укоренилась в умах людей»6.
Следующим положением Доклада является тезис о том, что индивид может выбирать свою идентичность, поскольку границы идентичности в глобальном сообществе подвижны и в принципе размыты. Так, например, в документе указывается, что «американцы мексиканского происхождения могут болеть за мексиканскую футбольную команду, и при этом служить в армии США7. Поэтому политика поощрения культурного многообразия, говорится в Докладе, не просто желательна, а жизнеспособна и необходима. Таким образом, уважение к многообразию становится универсальным принципом силы8.
В Докладе ООН особо указывается, что в современном обществе нет особой необходимости выбирать между уважением многообразия и национальным единством, потому что в условиях выбора идентичностей — это неэффективно. Многие культуры вообще не испытывают неудобств в самоидентификации. Так, например, большинство респондентов в Бельгии считает себя одновременно бельгийцами и фламандцами, а граждане Испании — испанцами и каталонцами.
Для осуществления свободного выбора подчеркивается необходимость всеобщего равноправия, соблюдение гражданских свобод, правовой плюрализм, свобода совести и четкая политическая стратегия — политика мультикультурализма. В качестве идеологических доминант мультикультурализма можно выделить следующие доминанты:
-
- уважение многообразия;
-
- признание множественной идентичности;
-
- создание тесных связей с местным сообществом.
Таким образом, наличие этих идеологических доминант должно привести, по мнению организации ООН, к состоянию всеобщей толерантности и уважению к культурным различиям, которые могут поддерживаться только искусственно.
В мультикультурализме различия, онтологически встроенные в контекст культуры и истории, искусственно конструируются и выдаются как «естественные» различия между народами. Нация становится неотъемлемым, но не определяющим основанием жизни, поскольку, следуя этой логике, мы всегда свободны в своем праве выбора идентичности.
Это позволяет представить мультикультурализм как трансценденталистскую модель социокультурной целостности, в которой все слои (а в данном случае — разнородные культуры) изоморфны друг другу. Именно подобный изоморфизм придает социокультурной целостности монолитный, но в то же время — динамичный вид9. Что обеспечивает интеграцию? Считается, что сосуществование различных культур обеспечивается единой средой обитания и подчинением общим угрозам.
На наш взгляд, проекты, подобные мультикультурализму, не так уж и новы в истории. Достаточно обратиться к конкретным примерам. В середине XIX в., как известно, по Европе прокатывается целая волна революций, связанных с неудачей социальных реформ. Параллельно — это время складывания малых национальных рынков, которые преследовали цель — привить чувство национального единства посредством единства покупателей. «А в больших многонациональных империях промышленный или торговый центр, который возникал в какой-то одной провинции, — как пишет британский историк Эрик Хобсбаум, — мог столкнуться с дискриминацией, но на задворках, понятно, предпочитали большой рынок, открытый для них сейчас, маленькому, когда наступит национальная независимость»10. Складывание национального рынка увеличивает поток эмигрантов, которые приезжают на чужие территории, где они чувствуют себя относительно свободными от тех уз, которые связывали их на родине.
Именно процесс складывания национального рынка, который должен разорвать локальные пределы, вызывает раскол социокультурного целого и рост националистических настроений. Возникают проблемы с идентификацией. Люди, находящиеся в другой стране, не могут себя определить. Уникальным явлением XIX века (как считает Э. Хобсбаум) можно считать то, что люди оказались лишены глубокого, создававшегося веками чувства традиционализма. Именно с 1820-х гг. начинаются процессы массовой миграции и иммиграции населения. Отрыв от корней означал не мягкую форму тоски по дому, он вызывал психологическую тошноту: «При-
тяжение далеких северных лесов было так сильно, что могло заставить эстонскую девочку-служанку бросить своих прекрасных хозяев, у которых она работала в Саксонии, где она была свободна, и вернуться домой в условия крепостничества»11.
В XIX в., приезжая в другую страну, эмигранты как были чужими, так чужими и остаются. Ото говорит о том, что в самой культуре существуют антиэнтропийные барьеры, которые невозможно искусственно сломать. Невозможно достичь идеальной социальной однородности. Единство создается только в процессе взаимодействия индивидуальных культур, но не в результате слома уже сложившихся барьеров между ними. И проводником в создании данного вида социокультурного единства может быть только идентификация себя в мировом пространстве. Проблема идентичности наиболее остро встает и в последнее время, особенно проблема национальной идентичности, которая была взята на вооружение в начале 80-х гг. XX в. представителями социального конструктивизма12.
Согласно американскому социологу А. Вендту, национальная идентичность представляет собой «совокупность культурных норм той или иной общности, влияющая на принятие тех или иных внешнеполитических решений»13. Национальная идентичность выполняет роль нормативного регулятора в глобальном политическом пространстве, на основании которой политические акторы формируют свое представление друг о друге.
Таким образом, они «конструируют» мир, на который впоследствии планируют повлиять с помощью уже созданной идентичности. Эта концепция позволяет понять, что национальные государства находятся в процессе непрерывного конструирования своей идентичности и мира, в котором они живут, в который они вносят свой символический капитал, свои культурные традиции и нормы — они создают определенное символическое пространство взаимодействия, построенное исключительно на различиях. Причем в результате этого взаимодействия между самими культурами формируется смысловое символическое поле, которое независимо от сознания самих включенных культур начинает определять логику их взаимодействия. Другими словами, образуется сетевая структура, посредством которой нация может обретать собственную идентичность.
И в этом смысле история нации предстает не как история конкретного этноса, оп ределенной стадии развития человечества. Она предстает как история, рассказанная о себе самой, которая влияет на дальнейшее восприятие истори. Как некий «образ», который создается для действия, — это некий опыт, который позволяет прогнозировать и быть готовым к столкновению с «независимыми другими». Нация — «говорящая» часть в целом, которая, создавая себя, рассказывает о своей истории и тем самым своим своеобразием укрепляет единство, формирует органическую солидарность как клетка в организме.
В эпоху глобализации политика идентификации становится все более интересной и сложной для понимания. В условиях широкомасштабных конфликтов идентичность индивидов и локальных культур становится менее определенной. Можно сказать, что история вместе с этничностью и религией не закончилась, а, наоборот, вернулись в общественное сознание в качестве новых источников идентификации. Ведь большинство конфликтов в современном мире происходит не во имя завоеваний или классовой борьбы, а на основании того, что кто-то является врагом: будь то мусульманин, католик, араб, еврей или кто-то еще.
Обращаясь к проблеме идентичности, конструктивисты подчеркивают роль потребности ощущать себя частью определенной социальной общности. Потребность идентифицировать себя с другими и быть ими признанными более значима, чем потребность физического выживания, а значит, и механического сохранения части в лоне социокультурного целого. Политика идентификации является центральной для складывания социокультурной целостности. Речь идет именно об анализе возможных вариаций национальных идентичностей, но не о принципах их конструирования. Принципами конструирования наций занимается, скорее всего, мультикультурализм.
К каким опасностям приводит любое конструирование идентичностей, указывают Э. Хобсбаум и Т. Рэнджер в книге «Изобретение традиций»14. Традиции, по мнению авторов, обычно ассоциируются с преемственностью и определенной долей повторяемости в изменяющихся условиях. Изобретение же — это акт одномоментный. Традиция и инновация как бы контрастны. И Э. Хобсбаум задается вопросом: каким образом такая историческая инновация как нация и национальное государство предстают как век от века данные? В качестве ответа на этот вопрос Э. Хоб- сбаум пишет, что через изобретение традиции, через фиктивную связь с прошлым или даже через придуманное прошлое 15. Изобретение традиции приходится на все эпохи истории без исключения.
Изобретательством занялись государства, политические движения, социальные объединения. Причина этого — распад старых социальных структур и приход на смену их новых: в частности, ростки национализма подстегивал средний класс. В эпоху, когда экономика могла существовать лишь в национальных рамках, законодательство кодифицировалось как национальное. Национальная традиция в большинстве своем есть изобретение. Слишком многое из того, что субъективно относится к нации, скроено из искусственных конструктов и связано с определенной символикой. История — это очень часто подмена смыслов. Так, например, шотландскими историографами было доказано, что считающийся национальным костюмом Шотландии популярный клетчатый килт — мужская юбка был на самом деле придуман английским лесопромышленником в XVIII в. и благодаря деятельности любителей гэльской культуры стал ассоциироваться с гэльскими кланами.
Нация изобретается через изобретение своих культурных атрибутов, которые чаще всего служат мишурой. «Чтобы считать себя народом, равным великим нациям, надо обладать не менее славной историей и не менее богатой культурой. Если что-то из этого отсутствует, недостающее может быть восполнено мифом, придуманной генеалогией или даже поддельными памятниками культуры. Такое замещение вызывается потребностью в самоуважении и признании со стороны соседних народов»16.
И тогда приходит национализм как средство восполнить пустоту, образованную распадом реальных сообществ и средств традиционного контроля. Традиции изобретаются. Но у нации должно быть «тело». Тело нации, как справедливо указывал Э. Ренан, составляет «душа или духовный принцип»17. Не случайно среди всех признаков нации ни один так не характеризует нацию, как чувство эмоциональной принадлежности к ней. Частица этой души, по выражению Э. Ренана, в ее конкретной исторической судьбе, в ее прошлом, а другая частица — в настоящем.
В самом понятии нации заключен двойственный смысл. Для обозначения нации в немецком языке, с одной стороны, используется понятие «Staatnation» (нация с собственной государственностью), а с другой — «Kulturnation» (нация, базирующаяся на достижениях в сфере культуры, но не обладающая государственностью). В этом смысле можно объединить нации как государственные образования, но нельзя — как образования культурные.
Кроме того, не все малые культуры, включенные в единое пространство других культур, могут добиться их же статуса, — для них просто может не оказаться места в политическом пространстве последних, и конфликт между ними будет неизбежен. При столкновении с другой культурой, последняя имеет уже достаточно устойчивую картину мира. В итоге исходному этносу нужно перекраивать уже имеющуюся картину мира, сохраняя в неприкосновенности центральную зону культуры. Если подобных культурных трансформаций не происходит, начинается кризис самоидентификации. Другими словами, каждая культура в процессе своего исторического развития нарабатывает свой символический капитал, который образует «сердце» этой культуры или «паттерн»18.
Невозможно объединить две культуры, не изменив исходный паттерн какой-либо из них. Это также означает, что нет отрытых границ, способных безболезненно вместить в себя любую культуру. Открытость границ приводит лишь к процессам ассимиляции, а если различия невозможно снять, то, согласно системному подходу, накопление различий неизбежно приведет к распаду системы в целом. И в этом смысле определенная закрытость собственных границ важна и необходима для сохранения собственной идентичности. Закрытость границ — это состояние некоторой исходной, изначальной конфликтности между мной и Другим (не нужно впускать Другого на начальном этапе, иначе это может угрожать всей целостности распадом). Совмещение культур — это всегда своего рода историческая травма. Мультикультурализм, наоборот, отстаивает полную открытость границ, и в этом смысле он не всегда замечает скрытую логику истории.
Вообще, при столкновении с другой идентичностью возникает необходимость по-новому истолковывать факты реальности, приписывать им новый взгляд на себя, то есть воспроизведением трансфера (переноса) на себя качеств другого, и автотрансфера — приписывания себе новых качеств. Удачные примеры смешения культур являются чаще всего исключениями, зачастую хрупкими и недолговечными. Они позитивно влияют на текущую эволюцию, нежели на глобальную логику развития истории. Как писал М. Вебер: «Трамвай продолжает свой путь, определенные причины приводят к определенным результатам, однако мы не знаем, в чем заключается наше предназначение, зачем мы живем и почему умираем»19.
Кроме того, сама интеграция носителей «малых» традиций оказывается довольно сложной составляющей социокультурного единства. На ранних стадиях индустриализации вновь прибывающие в города, если они этнически отличаются от доминирующего населения, испытывают не только относительные, но и абсолютные лишения. И уже по мере совершенствования индустриального общества он (или их потомки) либо ассимилируются, либо создают собственную жизненную среду. В какой-то период национальные государства становятся правилом, а не исключением. В будущем резкие проявления национализма смягчатся. Сглаживается проблема коммуникации даже при различии языков, так как происходит процесс порождения глобальной культуры или складывание единой государственности, за которой маскируются все национальные различия. Однако представляется, что отказ от идеи национального государства маловероятен, хотя какие-то изменения, несомненно, произойдут.
В современном политическом пространстве нация практически срослась с государством, и когда мы говорим об ООН, мы имеем в виду, прежде всего, диалог государств, но не диалог наций. Такие организации могут заниматься международной социализацией, но едва ли способны играть роль всемирных объединителей.
Список литературы Концептуальный смысл понятия «нация» и идеология мультикультурализма
- Полный российско-французско-немецкий словарь. М.: Тип. Августа Семена, 1826. С. 615.
- Большая энциклопедия. Т. 13. СПб.: Тип. Тов-ва «Просвещение», 1903.
- Smith A. National Identity. London, 1990.
- Энгельс Ф. О разложении феодализма и возникновении национальных государств//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М.: Политиздат, 1955. Т. 21.
- Доклад о развитии человека за 2004: Культурная свобода в современном своеобразном мире//Безопасность Европы. 2004. № 4. С. 73-91.
- Там же. С. 85.
- Там же. С. 78.
- Пигалев А.И. Призрачная реальность культуры (фетишизм и наглядность невидимого). Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003.
- Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789-1848. Ростов н/Д: Феникс, 1999. С. 190.
- Там же. С. 194.
- Цыганков П.А. Международные отношения: социологические подходы. М.: Гардарика, 1998.
- Vendt A. The Theory of Identity. London, 1987. P. 14.
- The Invention of Tradition/Eds. E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge, 1983.
- Ibid. P. 36.
- Корнеева В. «Воображенные», «изобретенные» и «сконструированные» нации: метафора в науке//Этнографическое обозрение. 1993. № 3. С. 162.
- Корнеева В. Указ. соч. С. 162.
- Паттерн здесь понимается как устойчивая структура.
- Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1990. С. 234.