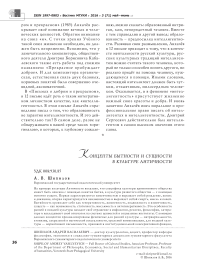Концепты бытности и сущности в культуре античности
Автор: Шипилов Андрей Васильевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия культуры. Культурология
Статья в выпуске: 3 (71), 2016 года.
Бесплатный доступ
На примере культуры Античности показано, что специфика культуры примитивного общества может быть описана с помощью понятия бытия, а культуры развитого общества - с помощью понятия сущего. Первая характеризуется изменчивостью и выражает собой рождение, жизнь и движение, вторая характеризуется неизменностью и выражает собой смерть, мысль и покой. Бытийность проявляет себя как генеративность, жизненность, подвижность и изменчивость, сущесть - как неизменность, статичность, мыслимость и антигенеративность. Эти особенности ранней и поздней культуры находят своё отражение в мифологии, религии, философии, литературе и накладывают свой отпечаток на систему ценностей и социальные институты. С помощью данных концептов проанализированы феномены: для ранней культуры - матриархальности, хтонизма, сакральной и магической сексуальности, оральной коммуникации, для поздней культуры - нормативной письменности, правовой и институциональной консервативной фикции, музеефикации прошлого, этернитальной идеологии и иммортальной аксиологии, внутриполитического абсентизма и внешнеполитического пацифизма, гипертекстуализации литературы, негации родства и рутинизации бездетности.
Античность, общество, культура, единое, целое, сущее, бытие
Короткий адрес: https://sciup.org/144161010
IDR: 144161010 | УДК: 008:930.85
Текст научной статьи Концепты бытности и сущности в культуре античности
Сравнивая на античном материале параметры ранней и поздней культуры, концептуализируемые через оппозицию единого и целого (в спенсерианско-дюркгеймиан-ско-тённисовском понимании социального развития как движения от единого к целому посредством двуединого процесса дифференциации и интеграции), нельзя не остановиться на таких характеристиках противоположных социокультурных модальностей, как бытийность и сущесть . Первое понятие достаточно широко присутствует в словоупотребительной практике, контекст же мы обозначим особо; что касается второго, то оно позаимствовано у В. С. Библера, противопоставлявшего античное понимание предмета как сущести средневековому пониманию его как присущести и нововременному пониманию его как сущности [4, с. 349, 352].
Понятие бытийности призвано выразить социокультурно специфизированную качественность единого. Единство как неразличенность одного и иного есть характеристика вещи бытийствующей, то есть тотально-перманентно изменяющейся, а изменчивость предстаёт прежде всего как генеративность.
Генеративность здесь выступает как порождаемость в обоих залогах: любое порождающее порождено в пределе непо-рождённого всепорождающего, то есть безначального начала, беспричинной причины, будь то хаос, бог или любое иное название первопотенции. Функция генерации в архаику находит своего носителя в едином материально-потенциальном начале, имеющем две ипостаси: это земля и женщина.
Плодородие одной и чадородие другой взаимно символизируют друг друга, а учитывая архаическую нерасчленённость означаемого и означающего, это и то практически тождественны. Матриархаль-ность хтонична, хтонизм матриархален; для ранних тео/космогоний присутствие всепорождающей матери-земли есть прак- тически conditio sine qua non. Конечно, здесь не без вариантов — скажем, гомеровская Тефида, чьё имя восходит к индоевропейскому tёta — ‘мать’, имеет водную природу [6, с. 199, 200], но это, скорее, исключение. Инвариант же представлен у Гесиода, узнавшего от Муз, что «прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом / Широкогрудая Гея» [12, с. 31]. Гея (в девичестве Хтония, по Ферекиду) не рождена, потому и генерирует как непорождённо-порождающая первосила: самостоятельно производит на свет нимф, Понт и Урана, а с помощью последнего — много ещё кого, в том числе и гомеровских Океана с Тефидой. Конечно, в отличие от иных богинь-матерей, Гея уже довольно специализирована — она порождает титанов и, не без эксцессов, гигантов, а собственно богов рожает её дочь Рея (опять-таки, имея проблемы с супругом); тем не менее даже ужасные киклопы и гекатон-хейры свидетельствуют о производительной мощи Земли, в почитании которой благоговение и ужас неотделимы друг от друга.
Более специализированными являются божества, персонализирующие абстрагированную функциональность — божества любви, причём отнюдь не небесной, а самой что ни на есть земной. В раннюю эпоху Афродита сохраняла связь с плодородием, браком, родами и детьми, олицетворяя не только сексуальность, но и плодовитость, однако быстро определилась с предпочтениями: «С самого было начала дано ей в удел и владенье / Между земными людьми и богами бессмертными вот что: / Девичий шёпот любовный, улыбки, и смех, и обманы, / Сладкая нега любви и пьянящая радость объятий» [12, с. 33].
Генерация подразумевала не только женское, но и мужское начало, выступая результатом их взаимодействия. Люди по возможности стремились подражать богам (imitatio deis) и даже помогать им в их нелёгком деле, устраивая мистерии сакрального брака с участием жрецов и жриц, царей и цариц, где один или оба из партнёров исполняли роль божества. Вообще, генерация во всех её ипостасях требовала людского содействия и участия, что реализовывалось посредством разнообразных приёмов и процедур.
В первую очередь стимуляция генерации реализовывалась через гиперактивацию сексуальности и выражалась в разнообразной фаллической обрядности. У греков на Дионисиях устраивались процессии, на которых носили большое изображение фаллоса, причём участники обвешивались такими же, но поменьше, и исполняли итифаллические песни. Римляне устраивали похожие процессии в честь Либера (Liber Pater), позднее отождествлённого с Приапом; на Приапеях тоже носили немалых размеров fascinum (латинское название эрегированного члена), привязывали себе подобные к животу и распевали «фесценнинские песни». Пластические изображения фаллов и вульв подносили богам в качестве вотивов; графические изображения замысловатых сексуальных актов украшали стены частных и общественных сооружений. Скульптурные приапы и гермы стояли в садах и на перекрёстках, способствуя изобилию и отгоняя беду [5, с. 97]. Фаллическая форма сама по себе была апотропеем и защищала от вредоносных сил и влияний, поэтому её придавали ножкам столов и ламп; наконец, амулеты fascinus вешали не только над входом в дома и комнаты, но и на шею (особенно детям) и носили не только на поясе, но и в ушах.
Всё перечисленное стоит в причинном отношении к генерации, но у неё есть и следствия, причём выражающиеся не только в религиозно-мифологически-мис-тических формах, но и в социальных, и в интеллектуальных. Прежде всего, родившийся рождается не единожды — за рождением физическим следует рождение социальное (инициация). Зато если уж человек родился, то он — человек: «свой» — это ingenuus, рождённый в сообществе, в отличие от недочеловеков-чужаков и нечеловеков-рабов. Именно такие «благорожденные» становятся «благородными» по мере разложения рода, именно у них доблесть-добродетель передаётся по наследству, статус определяется генеалогией, да и сама идентичность, закреплённая в именной формуле и родословии, накрепко привязана к происхождению. Что касается не этой поздней руди-ментированной, а ранней, подлинно архаической гентильной социальности, то понятно, что здесь генеративность выражает себя тотально как в бытии, так и в мышлении; но и в позднейшие эпохи мышление бытия также несёт в себе этот изначальный заряд, так как и fysis, и natura этимологически связаны с порождением, с семантикой ряда «рождаться», «возникать», «происходить».
Но бытийность не сводится к генератив-ности: что рождается, то и живёт, и эта жизненность-проживаемость, взятая как сенситивно-внерефлексивная в оппозиции интеллигибельности-промысливаемости, характеризует её не меньше. Мир архаики есть моноидальная сплошность жизнепро-живания, в котором нет ничего не-живого: любая сущность выступает существом, и персонами являются не только вещи, но и понятия. Качества и категории здесь настолько живые и жизненные, что смотрятся материально-плотскими; предметы одушевлены, а души опредмечены. Тем более одушевляются/обожествля-ются акты и состояния, дления и мгновения, при этом ритуал каждый раз предшествует мифу, наличное действие — последующему объяснению, а устная комму- никация, с её неизбежными моторноэмоциональными составляющими, делает из мира не текст, а ситуацию, где понимание и проживание тождественны.
Наконец, быть — это не только рождаться и жить, но и двигаться и изменяться. В архаическом мире действительно всё течёт, всё меняется : миграции и колонизации, отсутствие или малое распространение письменности и как следствие — литературного языка и школьной традиции — делают мобильность и вариативность стандартными характеристиками культуры социума в модальности единого. Кинетика и моторика наполняют все сферы социокультурного континуума от индустрии до искусства: движения и изменения столько, что всё выглядит неподвижным и неизменным, ибо нет статичного и стабильного, от чего можно было бы отличить сдвинувшееся и переменившееся.
Но если единое бытийно, то целое суще: если ранней культуре неизбежно присуща изменчивость во всём диапазоне её проявлений, то поздней культуре присуща в первую очередь неизменность, предстающая в не менее широком диапазоне видов и форм. Сущесть как социокультурно специфизированная качественность целого суть неизменность, характеризующая разнообразные реалии, фиксирующие реальность — например, письменность, превращающую акты в факты, или сам язык, стабилизация лексики и грамматики которого делает его совершенным орудием остановки прекрасных и не очень мгновений. Ранний язык, как и структурный аналог этой стадиальности — язык повседневный/низкий, лексически беден и грамматически несовершенен, но при этом динамичен, являя собой непрерывное изменение; поздний язык, как и любое высокое наречие , совершенен и богат, но статичен и неизменен.
Речь не только о словах: и правовые институции, и политические институты меняют содержание, оставляя неизменной форму, так что тривиальными становятся как юридические, так и административные консервативные фикции. Например, установление режима личной власти было подано Августом как восстановление республики: принцепс не упразднял выборных магистратур — он просто собрал их в своих руках, выступая одновременно или поочерёдно императором, консулом, проконсулом, цензором, народным трибуном и пр. Однако комиции он всё же упразднил — фактически затем Тиберий это сделал юридически, но, несмотря ни на что, они продолжали собираться вплоть до Северов, хотя никаких выборов там не происходило, и чем вообще занимались их участники, понять довольно сложно.
Время есть мера движения как инварианта изменения; если первое останавливается, второе замирает, а третье устремляется к нулю. Чем меньше остаётся истории как суммы изменений, тем больше становится культуры как суммы отличий — бытийствование сменяется существованием. Утрачивая историческую субъектность, Греция к эпохе Антонинов стала музейным объектом, которому посвящались энциклопедии и путеводители. Впрочем, и сам Рим к этому моменту всё быстрее двигался в сторону вечности, чья неизменность противостоит изменчивости времени. Идея aeternitas ещё с Августа стала стержнем имперской идеологии, и во множестве текстов зазвучали признания в любви к вечности [10, с. 88]. Веспасиан начал чеканить монету с легендой Aeternitas populi Romani; с этих пор и вплоть до христианизации «Вечность» значилась на монетах практически всех императоров. Даже после перенесения Константином столицы в Константинополь идея/образ вечности
Рима, этого Aeterna urbs, превозмогшего время, сохраняла парадигмальное значение для историков типа Аммиана Марцеллина и поэтов типа Рутилия Намациана, когда первый писал о городе, оставленном историей, что ему «суждено жить, пока будет существовать человечество» [2, с. 35], а второй призывал Urbs не обращать внимания на мелкие неприятности вроде готов Алариха, ибо впереди ещё вся вечность: «Сколько осталось веков впереди, не вымерить мерой: / Стой, пока тверди стоят, стой, пока звёзды горят!» [9, с. 148].
Вечность понималась как статическая стабильность, и в этом с эллинистическо-римскими философами, призывавшими к атараксии и практиковавшими своего рода у-вэй, были вполне солидарны их современники, из граждан ставшие подданными и из участников полисной жизни превратившиеся в зрителей, неуклонно демонстрирующих абсентизм во внутренней политике и пацифизм — во внешней. Рим, жаждущий мира и покоя, — раньше такое сочли бы анекдотом, но в данной модальности это должное, которое всем хотелось бы видеть сущим.
Сущее, однако, таково, что увидеть его можно лишь глазами разума: оно интеллигибельно, а не сенсибельно, ноотично, а не биотично, рационально, а не витально; им не живут — его мыслят. На психо/акси-ологическом уровне это выглядит как снижение социального внимания к рождению и жизни и повышение общественного интереса к смерти и бессмертию. Если архаика не знала идеи личного бессмертия и не слишком интересовалась малоприятным загробным существованием, то в постклассические эпохи посмертное причисление к бессмертным небожителям становится доступным даже рабам, тогда как обострённый интерес к танатологии характеризует настроения всех классов — у Плиния Младшего memento mori есть один из лейтмотивов эпистоля-рия [10, с. 30, 158], а «Дистихи Катона» изобилуют сентенциями типа: «Накрепко помни всегда, что смерти страшиться не надо, / Если она и не благо, она — окончание бедствий» [9, с. 152].
В мире сущего пение сменяется чтением, единовременная однократность события уступает место вневременной воспроизводимости смысла: так гимны и драмы, бывшие действами, становятся текстами. Этот мир всё больше состоит не из реальных вещей, а из их информационных репликатов, действительность обращается в знаниевость, опытность сменяется учёностью. Эта учёность как знание знания [знания знания знания…] в поздней Античности разрастается подобно раковой опухоли. Александрийцы и синстади-альные им представители второй софистики устраивают в этом плане настоящую вакханалию: скажем, если Афиней берётся описать пиры у разных народов, то делает это с помощью серии ссылок на Клитарха, Ликия, Филарха, Геродота, Мегасфена, Посидония, Сопатра Родосского, Николая Дамаскина и т.д.; если заходит речь о жемчуге, то следует изложение, что написано по этому поводу Фео-фрастом в книге «О камнях», Андрос-феном в «Плавании вокруг берегов Индии», Харетом из Митилены в «Истории Александра», Исидором из Харакса в «Описании Парфии», и так по каждому поводу, которых здесь хватает — буквально от рыб и овощей до поэтов и царей [3, с. 5].
С учёной прозой соперничает поэзия учёности: «Гриф о числе три» Авсония, где собрано всё троичное и троекратное — от выпиваемых чаш до школ риторики, включая трёхипостасность бога и трёхчастность именной формулы, просто поражает воображение, а автор ещё и недоволен. В послании к Симмаху, которому и посвящён «Гриф», он сокрушается: «Ах, сколько троек, отлично мне знакомых, оставил я в стороне! Три времени и три лица, три рода и три степени сравнения, девять стихотворных стоп и триметрический стих, всю грамматику и музыку, все медицинские книги, Трижды Величайшего Гермеса, первого на свете любомудра, Варроновы “Числа” и всё, чего не знает пошлый люд» [1, с. 114]. Очевидно, что здесь налицо некий античный постмодерн со всеми полагающимися реминисценциями на коннотации и текстами в контекстах. Действительно, творческая способность в поздние эпохи уже не та, ведь творчество — это генерация, а сущее, в отличие от бытия, антигенеративно. Каноны и шаблоны воцаряются не только в искусстве и литературе, но и в других социокультурных сферах — например, в праве, где тоже заканчивается юридическое творчество, заменяемое, согласно цитационным законам, следованием установленным образцам.
Ещё более значимым выражением свойственной сущему антигенеративности становится критически-отрицательное отношение ко всему, что связано с производным от бытийного рождения/порожде-ния происхождением. Социальный статус из аскриптивного становится дескриптивным — всякий homo novus позиционирует себя в качестве self-made man, отвергает наследственные привилегии и пропагандирует принцип меритократии. С другой стороны, антигенеративность являла себя в пренебрежении не только к предкам, но и к потомкам. Если в архаику продолжение рода было самоцельным и самоценным, то на постклассической стадии оно больше не является ни целью, ни ценностью. Самые разные люди, особенно из числа обеспеченных и состоятельных, отказываются от обзаведения детьми, поручая свою старость стараниям рассчитывающих на наследство родственников, свойственников и молодых параситов, а если дети всё же появляются, то от них избавляются, подбрасывая другим (тексты Менандра и Плавта изобилуют соответствующими мотивами [7, с. 289; 11, с. 120]).
Несмотря на фактическое принуждение к браку лиц высшего и среднего сословий, осуществлявшееся с помощью принятых при Августе законов Папия Поппея, поднять таким образом рождаемость было невозможно: со временем всё больше людей, хоть сколько-нибудь состоятельных, предпочитали жить для себя, вступая во взаимовыгодное партнёрство с несостоятельными, о чём читаем у Овидия, Петрония, Ювенала, Лукиана, Либания и многих других [8, с. 52]. Приближение финала наиболее ярко обозначилось в том небезызвестном антигенеративном феномене, что в позднеримско-ранневизантий-ские времена для занятия высокого места при дворе следовало быть скорее кастратом, чем аристократом: если последние чтили предков и производили потомков, то первые, не имея семьи и наследников, самовыражались на поприще службы, за что и удостаивались благосклонности верховной власти.
Таким образом, представляется, что задействованные в данной статье концепты бытийности и сущести при использовании в целях описания/объяснения противоположных характеристик ранней и поздней культуры достаточно эври-стичны; впрочем, об этом лучше судить читателю.
Список литературы Концепты бытности и сущности в культуре античности
- Авсоний. Стихотворения: [перевод] / Изд. подгот. М.Л. Гаспаров; [Рос. АН]. Москва: Наука, 1993. 356 с.
- Аммиан Марцеллин. Римская история: [перевод] / [вступ. ст. Л.Ю. Лукомского]. Санкт-Петербург: Алетейя, 1994. 569 с.
- Афиней. Пир мудрецов: в 15 книгах / подгот. Н.Т. Голинкевич [и др.]. Москва: Наука, 2004-. Книги I- VIII. Москва: Наука, 2004. 655 с.
- Библер В.С. От наукоучения - к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. Москва: Политиздат, 1991. 413 с.
- Геродот. История: в 9 книгах / пер. и примеч. Г.А. Стратановского; [Рос. АН]. Москва: Ладомир, 1993. 600 с.