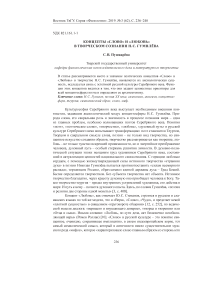Концепты "слово" и "любовь" в творческом сознании Н. С. Гумилёва
Автор: Пушкарва Светлана Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается место и значение поэтических концептов «Слово» и «Любовь» в творчестве Н. С. Гумилёва, выявляется их аксиологическая сущность, исследуется связь с эстетикой русской культуры Серебряного века. Функция этих концептов видится в том, что они задают ценностные ориентиры для всей концептосферы поэта и определяют ее архитектонику.
Н. с. гумилев, поэзия xx века, символизм, акмеизм, концептосфера, теургия, символический образ, слово, миф
Короткий адрес: https://sciup.org/146281497
IDR: 146281497 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Концепты "слово" и "любовь" в творческом сознании Н. С. Гумилёва
Культурософия Серебряного века выступает необходимым внешним контекстом, задавшим аксиологический модус концептосферы Н. С. Гумилёва. Природа слова, его сакральная роль и значимость в процессе познания мира – одна из главных проблем, особенно волновавших поэтов Серебряного века. Понятия «поэт», «поэтическое слово», «творчество», «любовь», «духовный путь» в русской культуре Серебряного века испытывают трансформацию: поэт становится Теургом, Творцом в сакральном смысле слова, поэзия – не только вид творчества, но священное искусство создания образов, творчество рассматривается как творение, любовь – не только чувство искренней привязанности, но и энергийное преображение человека, духовный путь – особый стержень развития личности. В духовно-политической ситуации эпохи неоценим труд художников Серебряного века, состоявший в актуализации ценностей национального самосознания. С горящим любовью сердцем, с помощью жизнеутверждающей силы истинного творчества «странник духа» в поэзии Николая Гумилёва пытается противопоставить «силам всемирного распада», терзающим Россию, образ-символ единой державы духа – Град Божий. Бытие определяется творчеством. Без субъекта творчества нет объекта. Истинное творчество благодатно, через красоту духовную оно приобщает человека к Богу. Такое творчество-теургия – предел внутренних устремлений художника, его действа в мире. И путь к нему – полнота духовного опыта. Здесь, по словам Гумилёва, «поэзия и религия две стороны одной монеты» [3, с. 408].
Концепт «Любовь», как отмечает Ю. С. Степанов, строится в русском и славянских языках по той же модели, что и «Вера», «Слово», «Чудо», и предстает некой «плотной сущностью» в священном «круговороте общения» [12, с. 252], по ведической модели диалога: «верящего и внушающего доверие», «творца и творения» или «Отца и сына». Иными словами: «Любовь, по сути дела, акт бесконечно возобновляющей веры» (Ромен Роллан) [10]. «Слово» в русской культуре – это понятие священное, очевидно, сохранившее имплицитно, в своем индоевропейском корне, тот самый символический смысл, который в античности имело существительное мужского рода «мифос», которое «характеризовало слово главным образом со стороны его содержания и потому часто значило ‛речь’, ‛совет’, ‛план’, а также ‛миф’» [12, с. 250]. Показательно, что в составе русских фразеологизмов «слово» упоминается в сочетании с такими словами, как человеческое, доброе, живое, вещее, поучительное, красное (красивое), ласковое, Божие, плоть, данное, золотое, не воробей (вылетит – не поймаешь), заповедное, «слово и дело», слово ведуном ходит, на правду слов немного и т. д. В Словаре В.И. Даля: «Слово, слава, слыть, слух и пр. одного корня; славить, славословить, стар. словити, одно и то же. Примечательно, что славянин, словенин, словесный человек, или словущий чем, также одно» [6, с. 450]. Получается, значение этнонима славяне можно определить как «владеющие силой слова». В славянской азбуке, как и во многих родственных древних индоевропейских языках, например, санскрите, за каждой буквой стоит слово, то есть она имеет мифологическое строение, расширяясь до бесконечности и «свиваясь, как кочан капусты» [9, с. 88]. А – Аз (я), Б – Буки (буква), В – Веди (ведать, знать) и так далее. Более того, славянская азбука построена по сакральному принципу троичности: одно рождает два, два рождает три, три рождает мир всех вещей. Ю. С. Степанов говорит о том, архаические жреческие ритуалы обращения к богам (молитвы), в том виде, как они представлены в «Ведах», связаны с описываемой им моделью «круговорота общения». «Семя семени – творения. Семя творения – сердце» [7, с. 74], – говорится в «Ведах». Далее: семя сердца – мысль. Русские пословицы: Гнило слово от гнила сердца Семя мысли – речь. Доброе слово сказать – посошок в руки дать. Семя речи – деяние. Ласковое слово и кость ломит. Свершенное деяние – человек. Кто говорит, тот сеет; кто слушает, тот собирает [6, с. 452]. Похожим образом в стихотворении «Мои читатели» своим основным творческим долгом и заслугой поэт Николай Гумилёв считает именно то, что он учил читателя действовать: «…как не бояться <…> и делать, что надо» [4, с. 133], чтобы, представ перед ликом Бога, ждать спокойно его суда.
На основе русских пословиц, соответствующих ведической матрице, логично сделать вывод, что в славянском языковом сознании сохранилось единство символических смыслов слова, соответствующих древней индоевропейской модели.
В начале ХХ в. мыслители-символисты вновь обратились к сакральной мифологической структуре слова. Вячеслав Иванов видел задачу художника в возвращении слову его изначального, совокупно духовного синкретического смысла, языку богов мифологической эры. В древнеиндийской поэтике проблема «выхолащивания» силы образа породила явление Сангама – литературной академии, многовековой труд мыслителей – поэтов, призванный «засевать родной язык семенами образов». Слово обладает особой энергетикой и воздействует на жизнь человека, но, как и в Дао, значимость слова зависит от того, чье это слово и как оно сказано. Для того чтобы наполнить слово сокровенным смыслом, как утверждал идеолог русского символизма Вячеслав Иванов [8, с. 89], необходимо следовать внутреннему канону - комплексу добродетелей, составляющих духовную основу творчества. В 1914 году немецкий мыслитель Хуго Балль писал об омертвлении тонких духовных тканей слова, скованного цепями грамматических связей. Вынув слово из бездумно и автоматически навязанных ему рамок предложения как отражения образа мира, насытили выхолощенные словеса большого города светом и воздухом, придали им теплоту, движение и их изначальную беззаботную свободу. «Мы старались наделить отдельное слово силой заклинания, сиянием созвездий. Мы свели пластичность слова к точке, откуда ее трудно будет превзойти… И произошло удивительное: исполненное магии слово вызвало к жизни, родило новое предложение, не обусловленное конвенциональным смыслом и никак с ним не связанное. Затра- гивая одновременно сотни мыслей, но не называя их, наше предложение заставляло звучать изначальную, глубоко затаившуюся в нем иррациональную суть его, будило и усиливало глубочайшие пласты памяти. Мы наделили слово силой и энергией, которые позволили нам заново открыть евангелическое понятие слова (логоса) – сложного магического комплекса» [1, с. 74].
Тонкое ощущение «духа времени», поиск духовного пути человека и мира посреди хаоса и разрушения привели Гумилева к спасительному «бегству к истокам», «бегству из времени» или к свободе от времени. Спасение и свободу в «только оттуда бьющем свете», в слове, ставшем голосом света, для себя и всей России , видит и лирический герой книги стихов «Огненный столп». Этот образ мы находим в одном из программных стихотворений Гумилёва – «Слово». Слово, становясь термином, умирает – считал Андрей Белый. «Дурные, зловонные слова» [2, с. 103], – писал он. К тому же мнению склонялся Хуго Балль: «Слово предано: оно жило среди нас. Слово стало товаром. Слово утратило всякое достоинство» [1, с. 75]. «Мы ему поставили пределом / Скудные пределы естества, / И, как пчелы в улье опустелом, / Дурно пахнут мертвые слова» [5, с. 98], – тревожно повторил Гумилёв. Для Гумилёва слово было таинственной «чудотворною мантрой, расколдовывавшей мир» [3, с. 43]. «В оный день, когда над миром новым / Бог склонял лицо Свое, тогда / Солнце останавливали словом…» [4, с. 98], – начинает поэт свое стихотворение «Слово».
В древнем индийском эпосе «Махабхарата» описана история любви девушки Савитри и юноши Сатьявана. Сатьяван по воле богов должен был умереть молодым, вскоре после женитьбы. Ночью бог Яма должен был прийти за жизнью царевича. Савитри названа в честь богини Света. Она попросила свою покровительницу продлить день, остановив солнце, чтобы бороться за жизнь мужа. Сорок дней стояла Савитри у бесчувственного тела мужа, и сорок дней не заходило солнце. Удивленный мужеством девушки и убежденный мудрыми словами Савитри, всесильный Бог Судьбы уступил ей, и царевич Сатьяван остался жив. Вполне возможно, что поэту был известен этот сюжет из великой поэмы, так как в той же книге «Махабхараты» помещена история о Нале и Дамаянти, которую Гумилёв вспоминает в стихотворении «Пятистопные ямбы»: «Я проиграл тебя, как Дамаянти / Когда-то проиграл безумный Наль…» [5, с. 250]
В основе метафоры поэта, как правило, лежит символический образ или мифологический сюжет и опыт мировой духовной культуры – опора поэтики Серебряного века. Гумилёву близки эзотерические идеи, теософские и антропософские концепции, с обострённым интересом воспринятые литературной интеллигенцией рубежа веков. Так, утверждая творящую божественную природу слова и его примат над числом («Патриарх седой, себе под руку / Покоривший и добро и зло, / Не решаясь обратиться к звуку, / Тростью на песке чертил число…» [4, с. 98]), Гумилёв обращается к древнему эзотерическому знанию. В мудром числе скрыты «все оттенки смысла», числа передают отношения явлений («гармонию сфер») и, таким образом, отражают динамику земных и вселенских процессов. Бесконечно развертывающейся спирали подобен числовой ряд числа Пи, похожей на змею-уроборос. Боится произнести слово-мантру жрец Морадита в «Поэме Начала» Н. С. Гумилёва. Недаром боится жрец, ибо знает творящую силу звучащего слова: вдохновенной песней люди-боги зажигали звёзды («Калевала», «Песнь Вяйнемейнена»).
По мнению Ю.В. Зобнина, одним из основных источников символики в программном стихотворении «Слово» является герметическое знание. Из сборника текстов об учении Гермеса Трисмегиста: «…перед Гермесом были воды и огонь, разделен- ные эфиром, в этом эфире держался в равновесии наш мир, представлявший материю в хаотическом состоянии. …Слово парило над небесными водами и приводило мир в движение, причем на нем появился свет и самые разнообразные формы» [11, с. 32].
Изначально сила слова была такова, что: «И орел не взмахивал крылами / Звезды жались в ужасе к луне / Если, точно розовое пламя, / Слово проплывало в вышине …» [4, с. 98]. Мысль и слово создают действие всемогущества! «…И Поймандр сказал Гермесу: “Мысль есть Бог – отец, слово – его сын, они неразрывно связаны в вечности, и их единение есть жизнь”» [11, с. 32]. Слово-мантра, звуко-смысловая матрица существ, предметов, явлений, «живое, действенное» слово – у Гумилёва это «смысл жизни и назначение поэта». «Земля забудет обиды обиды, всех воинов всех купцов / И будут, как встарь, друиды / Учить с высоких холмов, / И будут, как встарь, поэты вести сердца к высоте, / Как ангел ведет кометы…» [5, с. 288]. Величайшая сила гармонии, радость и полнота бытия, свобода, счастье и любовь открываются в творчестве. Интенциональный характер творческого опыта открывает поэту сокровенные тайны бытия. Поэтому концепты «Любовь» и «Слово» в творчестве Гумилёва несут значение коренного преобразования на энергийном уровне, которое совершается по божественным законам Истины – Добра – Красоты, создавая ценностный мир поэта.
Список литературы Концепты "слово" и "любовь" в творческом сознании Н. С. Гумилёва
- Балль Х. Бегство из времени // Вопросы литературы. 2007. № 4. С. 73-79.
- Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. 528 с.
- Гумилев Н. С. Pro et contra. СПб.: Изд-во Рус. христ. гум. ин-та, 1995. 672 с.
- Гумилев Н. С. Собр. сочинений: в 10 т. Т. 1. М.: Воскресение, 2001. 394 с.
- Гумилев Н. С. Стихи. Поэмы. Тбилиси: Мерани, 1989. 494 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4. М.: Рус. яз., 1998. 684 c.
- Древнеиндийская философия. М.: Мысль, 1972. 272 с.
- Иванов Вяч. И. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. 428 с.
- Лотман Ю. М. О мифологическом коде сюжетных текстов // Сборник статей по вторичным моделирующим системам / Тартуский гос. ун-т. Тарту, 1973. С. 86-90.
- Любовь: афоризмы [Электронный ресурс] // Афоризмы. URL: http://www. aforizm.su/aforizmy-pro-lyubov-citaty-o-lyubvi/ (дата обращения: 15.16.2019).
- Оккультизм и магия. М.: Т-во Клышников, Комаров и К°, 1993. 192 с.
- Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. М.: Языки рус. культуры, 1997. 824 с.