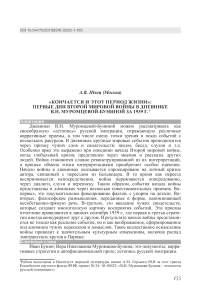«Кончается и этот период жизни»: первые дни Второй мировой войны в дневнике В. Н. Муромцевой-Буниной за 1939 г.
Автор: Швец А.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Дневники В.Н. Муромцевой Буниной можно рассматривать как своеобразную «летопись» русской эмиграции, отражающую различные нарративные приемы, в том числе смену точки зрения и показ событий с нескольких ракурсов. В дневниках крупные мировые события преподносятся через призму чужих слов и свидетельств: писем, бесед, слухов и т.д. Особенно ярко это выражено при описании начала Второй мировой войны, когда глобальный кризис представлен через мнения и рассказы других людей. Война становится словно реконструированной из их интерпретаций, а процесс обмена этими интерпретациями приобретает особое значение. Начало войны в дневниках оказывается спроецировано на личный кризис автора, связанный с переездом из Бельведера. В то время как переезд воспринимается непосредственно, война переживается опосредованно, через диалоги, слухи и переписку. Таким образом, события начала войны представлены в дневниках через несколько повествовательных приемов. Во первых, это документальное фиксирование фактов, с упором на детали. Во вторых, философские размышления, переданные в форме, напоминающей несобственно прямую речь. В третьих, это введение чужих свидетельств, которые создают многоголосую картину восприятия событий. Эти приемы отчетливо проявляются в записях сентября 1939 г., где первая и третья стратегии иногда конкурируют друг с другом. В результате начало войны представляется не только как реальное событие, но и как воображаемое, сформированное под влиянием чужих пересказов и домыслов. Такое коллективное осмысление войны приводит к значительным культурным изменениям, включая распад эмигрантских кругов в Париже.
Иван бунин, вера николаевна муромцева бунина, эго документы, нарративные стратегии в автофикциональной прозе, летопись русской эмиграции
Короткий адрес: https://sciup.org/149147771
IDR: 149147771 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-155
Текст научной статьи «Кончается и этот период жизни»: первые дни Второй мировой войны в дневнике В. Н. Муромцевой-Буниной за 1939 г.
Ivan Bunin; Vera Nikolayevna Muromtseva-Bunina; ego-documents; narrative strategies in autofictional prose; the chronicle of Russian emigration.
Дневниковая проза В.Н. Муромцевой-Буниной – «летопись» жизни русской эмиграции, в которой находит отражение эмигрантская публичная сфера [Пономарев 2024a; Пономарев 2024b]. Этот эго-документ-«летопись» проявляет различные нарративные стратегии, в частности, переключение точки зрения и моделирование взгляда на одно и то же событие с разных сторон. Нередко значимые события мирового масштаба обозреваются (и реконструируются) в дневнике на основе дискурсивных свидетельств других людей, знакомых автора дневника: писем, пересказов устных бесед, сплетен и др. Особенно ярко эти стратегии проявляются в изложении событий самого начала Второй мировой войны – первых дней глобального катаклизма. Значимое событие начала войны переживается через пересказы третьих лиц и воссоздается во многом в их интерпретациях и в обмене интерпретациями.
Начиная с марта 1939 г. В.Н. Бунина в дневнике всё чаще пишет о надвигающейся войне. 15 марта 1939 г. – первая запись на эту тему в 1939 г.: «Сейчас газета. Опять тревога. Неужели война неизбежна» [Русский архив в Лидсе; MS.1067/410 – здесь и далее для [Бунина 1939] – А.Ш. ]. Летом
1939 г. еще есть надежда на то, что катастрофы можно избежать, частичное недоверие к слухам о войне. 5 июля 1939 г. Вера Николаевна фиксирует горькое размышление: «Будущее – война, как-то мне не верится. А если война будет, то не многие из нас ее переживут» [Бунина 1939]. Уже в конце августа 1939 г. сомнения отступают: война точно случится, убеждены Вера Николаевна и ее окружение. В записи от 26 августа 1939 г. читаем: «1%, что войны не будет. Жутко!» [Бунина 1939]. Состояние «нервного» ожидания неизбежного события, накрученности «до предела», обостряется в последний день августа, 31.08.1939: «Больше недели в сильнейшем напряжении. Война или мир? Столько за это время произошло событий, что все пошло прахом».
«Кончается и этот период жизни»: переезд из Бельведера и объявление войны
Мировая катастрофа становится магистральной темой дневника в конце августа-сентябре 1939 г., совпадая с личным потрясением в семье Буниных: переездом и перевозом всего хозяйства. Бытовой кризис оттеняется глобальным. События, из-за которых «все пошло прахом», – хлопоты в связи с готовящимся переездом с виллы «Бельведер». Этот переезд частично не связан с войной, но ей омрачен. В то время как события войны переживаются опосредованно (не от лица пишущего «я», а через рассказы множества «других»), переезд и начало новой жизни на новом месте ощущаются непосредственно (от лица «я»-повествователя дневника), и оба кризиса взаимно усиливают друг друга.
Семья Буниных планирует покинуть виллу «Бельведер» с лета 1939 г. Причины – финансовые затруднения. В связи с тем, что в доме Буниных проживают Ольга Жирова (де-факто приемная дочь Буниных) с ее матерью Е.Н. Жировой, а также приехавшие недавно Галина Кузнецова и Маргарита Степун, живут Иван Алексеевич и Вера Николаевна не по средствам и вынуждены экономить. Подсчетом средств занимается Вера Николаевна, будучи недовольна рассеянностью мужа и его невниманием по отношению к таким земным материям. Вера Николаевна сетует 15 июня 1939 г.: «устройство здесь, в холодной вилле взяло не только много физических сил, но и духовных, вернее, душевных, а духовные силы идут на то, что я недовольна собой» [Бунина 1939]. Причина усталости – в требовательности «сожительниц» и их нежелании вносить свой вклад в общие расходы:
…мы при сам-пять, а порой и сам-шесть можем жить очень скромно <...> Хуже другое. Недовольство столом. «Мало». А я еще прикладываю к тому, что дает Ян, доплачивает и он. Выходит на еду <...> не очень жирно, Ян и от этого кричит, а они недовольны <...> вот тут и выворачивайся <...> расходы на Олечку тоже падают на меня. И вот Галя: <...> «Вы не должны так много времени отдавать кухне». А если не отдавать, то потекут счета. Ян, который не считает никогда денег, <...> не отдает себе отчета, сколько должно стоить содержание пяти человек. А им нет до чего нет дела [Бунина 1939].
Содержание шести человек дорого обходится семейству Буниных. Вера Николаевна вынуждена совмещать литературную работу (переводы, набор текстов, написание собственных текстов) с работой по дому – сократив расходы на приходящую домохозяйку («платная баба»). Тем не менее, даже при таком раскладе Вера Николаевна не успевает выполнять домашние обязанности и распределяет их между членами импровизированной коммуны, чтобы каждый вносил свою лепту в общее хозяйство. Это приводит к конфликтам – и не облегчает финансовое положение. В итоге жизнь на вилле «Бельведер» для супругов становится роскошью: «Ян грустит, что Belvedère сдан. За его цену ничего нельзя достать. Все нам не по деньгам, – пишет Вера Николаевна 2 августа 1939 г. – Я утешаю, что это к лучшему. Как топить было бы виллу? Ни одного сильного мужчины» [Бунина 1939].
На протяжении августа 1939 г. супруги подыскивают жилье. 10 августа 1939 г. в дневнике В.Н. Муромцевой-Буниной читаем: «Ян все ищет дачу, квартиру, ничего нет подходящего. Одна вилла в Le Cаnnet очень всем нравится, но она без мебели. А как сейчас, когда все в ожидании войны, “обзаводиться”, да еще в месте, откуда мгновенно попрут» [Бунина 1939]. И.А. Бунин в дневниках упоминает о поиске новой виллы 17 августа 1939 г.:
Вчера с Маркюсами [соседи по Грассу – А.Ш. ] Верой и Лялей [Е.Н. Жирова – А.Ш. ] осмотр виллы в Cannet-La Palmeraie. Нынче еду с Г. [Г. Кузнецовой – А.Ш. ] и М. [М. Степун – А.Ш. ] в Juan-les-Pins смотреть другие виллы [И.А. Бунин. Новые материалы… 2004, 129].
17 августа Бунины и их близкие друзья осмотрела виллу, о которой Вера Николаевна отзывается так: «Очень хороша. И Ян, я чувствую, там и писать будет, нет подъемов. Близки лавки. Много прогулок по ровному месту» [Бунина 1939]. Кажется, это жилье оказалось для Буниных слишком дорогим – в силу очевидных преимуществ: доступа к магазинам, выгодного расположения далеко от подъема в горы. Вилла в Жуан-ле-Пене, морском курорте французской Ривьеры, тоже не приглянулась супругам. По словам Веры Николаевны (18 августа 1939 г.): «Juan les Pin<...> вилла 12 000 в год внутри очень хорошая, но без сада и очень противное место. А вещи дорогие, такое огорчение. Буткевич же согласен за 2 000 дать три сомье, стол, буфет, 10 стульев, три стола и шкап» [Бунина 1939]. Дом на Лазурном берегу для Буниных также слишком дорог, не говоря о том, что лишен сада и беден в отношении хозяйственной утвари.
Поиски жилья завершились 17 сентября 1939 г., когда война уже разразилась. 18 сентября 1939 г. Вера Николаевна отмечает в дневнике:
Вчера сняли виллу Jeanette rue Napoléon. Спешно ее сдали англичане, которые завтра едут в Лондон через Париж. Сдали дешево за 12 000 в год, она стоит дороже. Вилла чудесная, «с сюрпризами», но стоит высоко, с кульками подниматься трудно. Хорошо то, что они взяли чек (34 фунта) на Swiss bank, так что мы как будто живем даром, то есть то, что Ян выписал раньше, на виллу не пойдет [Бунина 1939].
Снятая Буниными вилла – вилла «Жаннет», которую покинули англичане, спасаясь от войны – по свидетельству подруги семьи, Т.Д. Муравьевой-Логиновой:
В сентябре 1939 года неожиданно началась война. Бунины были одиноки и растеряны. К этому времени они окончательно покинули дачу «Бельведер». Новая вилла «Жаннет», снятая у англичанки миссис Юльбер, уехавшей на время войны в Англию, была гораздо лучше и просторнее «Бельведера». Хорошая, бар- ская обстановка, изумительный вид на Грасс – все это подбодрило Буниных. Конечно, взбираться на те высоты, на которых находилась «Жаннет», было нелегко. Вилла была одной из последних по Наполеоновской дороге, почти при выезде из Грасса. Над ней в саду возвышалась каменная часовня, а за часовней сразу начинался хвойный лес. Нужно было полчаса, чтобы подняться из Грасса по сокращенной дороге: по крутым тропинкам и лестницам мимо кактусов и запущенных огородов [Литературное наследство. Т. 84. Кн. 2, 1973, 309].
Вилла с «сюрпризами» расположена на окраине города, далеко от вокзала. Добраться до этого места затруднительно – нужно одолеть крутой подъем, что нелегко дается женщине, частично исполняющей обязанности кухарки и регулярно посещающей местный рынок, чтобы вернуться оттуда с кульками с провизией. Эти недостатки мотивировали низкую стоимость съема – вместе с шоковой ситуацией начала войны.
Мирная жизнь и жизнь в Бельведере (где супруги прожили около 16 лет) заканчиваются фактически одновременно. 3 сентября 1939 г. Вера Николаевна подводит итог – впервые упоминая об объявлении войны в дневнике:
3 сентября. 7 ч. в<ечера>. Англия объявила войну. Кончается и этот период жизни.<...> Все в чемоданах. Снесены вещи к Жозефу. В доме беспорядок [Бунина 1939].
Скарб, скопившийся за долгие годы, упакован и оставлен у помощника по хозяйству, итальянца Жозефа. Жозеф жил в доме над виллой Бельведер и служил у Буниных в Грассе, выполняя разные домашние обязанности (повара и др.). Беспорядок в доме и грядущая разлука с добрым соседом только упомянуты в дневнике словно бы вскользь. Признание о завершении «периода жизни» в Бельведере придает этим строкам меланхолическое звучание – если не трагическое, что подчеркивает упоминание войны.
Описание начала войны в дневнике Веры Николаевны строится на контрасте между рутинной повседневностью, протокольно-сухим регистрированием фактов – и размышлениями экзистенциального толка – запись от 3 сентября 1939 г.:
Вчера обили окна синей или черной бумагой. Сделали синие абажуры. Весь Грасс был темен, ночь была прелестная, тишина. И зачем в мире война? Видела, как уходили стрелки на позицию – третий раз провожаю на войну молодых людей. Французские солдаты не похожи на наших, и идут они иначе, нестройно, нет той выправки, какая была у наших. Но держатся хорошо [Бунина 1939].
Один из признаков военных действий – необходимость оклеивать окна, чтобы не был виден свет и был минимизирован риск травм от выбитых окон. Другой признак – уходящие на фронт солдаты. Стоит отметить, что эти признаки сами по себе свидетельствуют не о реальных военных действиях, а о воображаемых: об ожиданиях военных действий, о подготовке к ним. Война, пока частично воображаемая, характеризуется при помощи вещественных де- талей: синий абажур, черное окно, уходящие неровным строем солдаты. Параллельно в текст вплетен внутренний монолог Веры Николаевны, чуть ли в режиме несобственно-прямой речи, нарушающей протокольно-фактологическое повествование («И зачем в мире война?»).
Еще одно вкрапление размышлений экзистенциального рода о войне обнаруживается в записи от 5 сентября 1939 г.:
Не могу примириться с тем, что вот здоровый, молодой человек будет ранен, останется калекой, будет убит. И зачем? Неужели мир не придет к полному разоружению, и люди перестанут смотреть на войну как на что-то великое, ведь дуэль почти исчезла, верую, что и войны исчезнут.
Henri читает Ремарка – нашел время.
Война как смертоносное событие здесь тоже довоображается – с ужасом и неверием, как катастрофа в первую очередь гуманитарная, итог которой – потеря молодого поколения. Частично выстраивать нарратив о войне помогают литературные источники, которые дают убедительную, эмоционально окрашенную картину Первой мировой войны. К таким источникам относятся романы Ремарка (судя по всему, знаменитый роман «На Западном фронте без перемен»), который читает инженер-металлург Анри Малькор, родня по мужу Киры Сергеевны Грар (родственницы Веры Николаевны), приближенный к друзьям Буниных, А.М. и Е.Н. Жировых. Интересно, что достраивание события войны при помощи литературного нарратива у Веры Николаевны вызывает скепсис, хотя она, как и Ремарк, рассуждает о проблеме «потерянного поколения».
Война от третьего лица: вплетение свидетельств в дневник
В отличие от переезда, военные события переживаются в семействе Буниных (включая их близкое окружение) опосредованно, в большей степени не от первого, а от третьего лица: через слухи, пересказы, новостные сводки, обсуждение новостей в личной беседе.
В записи 3 сентября 1939 г. таким третьим лицом становится соседка по Грассу, мадам Казоран (madame Cazauran), француженка с итальянскими корнями, исполняющая обязанности медсестры («итальянская кровь во французской обработке очень хороша» [Бунина 1939]): «Madame Cazauran сказала вчера, что у нас безопасно, а если Италия не вступит в войну, то это самое безопасное место во Франции <...> Она в defense passive, она мобилизована как сестра милосердия со своей машиной. Бодра. Очень разумно все понимает» [Бунина 1939].
От третьего лица войну переживают и приятели-эмигранты Веры Николаевны в Грассе – супружеская чета Муравьевых (Т.Д. Муравьева-Логинова и И.Н. Муравьев). Информация об их дружеском визите – в записи от 3 сентября 1939 г.:
Заходили Муравьевы – Игорь Ник<олаевич> и Таня. Они разорены – у них большое имение в Польше. Не могу сказать, чтобы Т<аня> нравилась мне: всегда чувствую фальшь. Но, конечно, и ей невесело. Всех братьев Муравьевых призывают, ее мужа в Париже [Бунина 1939].
Игоря Николаевича, пребывающего в Грассе, заочно призвали в Париже (а очно, вероятно, призвали его братьев). В связи с вторжением фашистской Германии в Польшу разорено семейное имение. Эти вести преподносятся в приятельской беседе семье Буниных – в виде пересказа событий, происходящих непосредственно не здесь, а в другом городе и в другой стране, и не с присутствующими в комнате, а с их родственниками (теми, кто живет в имении в Польше).
Важна группа третьих лиц, чьими глазами Вера Николаевна (и ее супруг) смотрят на войну – круг их знакомых в Париже. Начало второй мировой войны как событие реконструировано в дневнике Веры Николаевны по эпистолярным «репортажам» из французской столицы [в этой связи см. Пономарев, Дэвис 2014]. Эти репортажи повествуют о дальнем эхе войны, ее отголосках – том, как война ожидается и довоображается.
-
3 же сентября 1939 г. Вера Николаевна пишет о письме от давней подруги юности, Веры Алексеевны Зайцевой (также жены Б.К. Зайцева, друга семьи Буниных):
О Лене [Зурове – А.Ш. ] без слез не могу думать. Но держусь, почти не говорю о нем. Верочка [В.А. Зайцева – А.Ш. ] написала, что по словам Наташи [Н.Л. Барановой – А.Ш. ], он стал красив. А он писал, что очень загорел – стал мулатом. Боже, какой крест у меня быть врозь с теми, кого люблю в такие минуты, Павлик [брат В.Н. Муромцевой-Буниной] да и вся моя семья…[Бунина 1939].
«Верочка» Зайцева пересказывает адресату письма разговор с родственницей и подругой Веры Николаевны, Натальей Львовной Барановой, дочерью философа Льва Шестова. Разговор касался члена семьи Веры Николаевны, Леонида Зурова. Зуров в 1935, 1937 и 1938 гг. участвовал в этнографическо-археологических экспедициях в русские районы Прибалтики в составе миссии от парижского Музея человека и французского Министерства просвещения [Громова, Захарова 2012, 23–24]. Вероятно, продолжительное нахождение в полевых условиях сделало Зурова почти мулатом (хотя, возможно, причина также в продолжительном нахождении вне дома в описываемый в письмах период времени). Примечательно, что Зайцева ничего не сообщает Муромцевой-Буниной о самой войне, только о том, кого война могла бы затронуть (Зурова, Баранову) и как близко к опасности они находятся. Зайцева тоже смотрит на войну издалека, передавая Муромцевой-Буниной опыт войны как дистанционного события (и все более его опосредуя и отдаляя от опыта от первого лица).
-
7 сентября 1939 г. цитируется несколько писем Л. Зурова, дошедших со значительным опозданием. Одно от 31 августа 1939:
«Сегодня сравнительно спокойный день, но весь Париж живет тяжелой, нервной жизнью. Вечером темнота, окна плотно прикрыты, всюду больничные фиолетовые лампочки, тишина <...> У меня все время встречи с будущими новобранцами. Это нас всех объединило. Вчера, возвращаясь домой, встретил З<ина-иду> Н<иколаевну> [Гиппиус – А.Ш.] и Дм<итрия> С<ергееви-ча> [Мережковского – А.Ш.]. Выбирали уголовный роман из подержанных. “В такое время только уголовными романами и спа- саюсь”, – сказала Зин<аида> Ник<олаевна> [Гиппиус – А.Ш.] – “приходите в воскресенье. У нас собираются все призывные”» [Бунина 1939].
Несколько ярких деталей – выключенный свет, неяркие лампочки, детективные романы – и упоминание встреч с новобранцами в изложении Зурова – помогают создать атмосферу грядущей войны. Примечательно, что в среде Зурова война частично побуждает круг эмигрантов (в частности, семью Мережковских) к намеренному эскапизму – забвению в бульварном чтиве, «уголовных романах». Также проступает важность общественных коммуникативных ритуалов – сборов для отправки на настоящую войну, обсуждений в преддверии еще не случившейся войны в пока еще домашнем кругу (встречи новобранцев).
Вести о том, как переживается приход войны, доносятся до Веры Николаевны из писем ее «сожительниц», Маргариты Степун и Галины Кузнецовой – и, как и письма Зурова, их донесения приходят с опозданием. Обе женщины в сентябре ненадолго посетили Париж, пока Бунины переезжали. Причина визита – личные дела М. Степун (необходимость «прийти с документом» в «беженскую организацию» [Бунина 1939] – запись из дневника от 9 сентября 1939 г.). 6 сентября 1939 г. Вера Николаевна пишет об очередном письме:
Только что экспресс от Марги [Степун – А.Ш .], посланный 2 сентября.
Им пришлось пропустить 3 поезда, ехать в клозете, сидя на чемоданах. Такси не достали, но как-то добрались до дома. «Электрич<еская> станция – крепость из мешков песка. Люди ходят по улице с газовой маской на ремне через плечо. Город пуст и жуток». Они «стремятся всеми силами вон». Лени не застали. Свидания в 6 ч. Иностранцев еще не призывают. Илюша «беспечен, как всегда, даже противно: «что же вам волноваться, сидите в Париже – и сидите»... «В понедельник пойдем к Маклакову». Хотят ночевать, где Леня. (Это правильно.) «Здесь очень жутко и опасно. Евреи все уехали». <...>
Уже в Париже была тревога прошлой ночью. Люди в подвалах провели больше 4-х часов! [Бунина 1939].
Симптоматично, что новости приходят не из эпицентра событий, а из пока отдаленного Парижа, и с задержкой на несколько дней. Фактически, само событие войны все больше и больше отдаляется от семьи Буниных во времени и пространстве, но переживается как очень близкое за счет эмоциональной вовлеченности в жизнь их круга. Глазами Маргариты Степун и Галины Кузнецовой Бунины видят опустевший Париж, оставленный жителями в панике, – в частности, евреями, бегущими от преследований. Нарратив о войне складывается из тех деталей, которые выделяют Степун и Кузнецова как корреспонденты: газовые маски через плечо, подвалы-бомбоубежища, груды мешков с песком. Эти детали – только индексы реальных (ожидаемых) боевых действий: газовая атака, авианалетов, наступления. Война опять рассказана не от первого лица, а в беседах от третьих лиц, например, скептика-эсера И.И. Фондаминского («беспечный Илюша»), В.А. Маклакова, каде- та, бывшего посла России во Франции от Временного правительства, главы Эмигрантского комитета и Офиса по делам русских беженцев при МИДе Франции.
Из перспективы третьих лиц до Веры Николаевны нередко доходят даже не пересказы реальных событий, а спекулятивные предположения. В записи 9 сентября 1939 г. цитируется письмо М. Степун:
Действительно переживаем страшное время. Собственно, нет основания думать, что не будет каждую следующую минуту бомб и газов... У нас даже нет масок! <...> Во всяком случае, в этом напряжении жить долго нельзя, и мы ждем избавления от Парижа [Бунина 1939].
Рядом в той же записи – отчет Г. Кузнецовой (отдельно отмечено, что письмо «шло четыре дня»):
Три дня живем в Париже. Живем в непрестанной тревоге и разных попытках, кот<орые> затрудняются ужасно тем, что в городе способы сообщения страшно уменьшены <...> Сегодня сделано 8 концов, из которых час на такси. <...> В 5 часов, в то время, когда исчезали последние минуты, мы сидели на лестнице под церковью rue Daru с ужасной тоской в душе. Теперь – свершилось. Мы ничего не знаем. Народу осталось в Париже мало. Все с масками на улице. Нервность ужасная, хотя и сдерживаемая... <...> Каждый день езда по Парижу стоит страшно дорого, а не ездить – нельзя <...> Здесь нет ни часа покоя [Бунина 1939].
Кузнецова описывает атмосферу тревоги, охватившей город, откуда все уехали; это обстоятельство сказывается на подорожании такси и необходимости много перемещаться по городу (вероятно, чтобы успеть повидаться с теми, кто остался).
Также в этой записи цитируется письмо П.А. Михайлова, члена правления Парижской академической группы: «“Что-то будет дальше. Страшно думать. Позиция немцев очень сильна: они знали, на что идут и что делают. Их подлость и жестокость рассчитаны на много лет вперед…” <...> “Мой внутренний счетчик сказал мне: пришел час отъезда”» [Бунина 1939]. И Сте-пун, и Кузнецова, и Михайлов гадают о возможном будущем и простраивают вероятные сценарии, но ничего не сообщают о реальных военных действиях. О них мы узнаем по косвенным признакам – так, Михайлов в том же письме пишет, что уехала «[м]асса евреев – и Золотницкие, и Коневские, и Лихтма-ны, и Кенихбергские» [Бунина 1939].
О возможном будущем гадает и сама Вера Николаевна – представляя себе, как могут вести себя в опустевшем Париже ее знакомые и близкие (запись от 8 сентября 1939 г.):
Беспокоюсь и за Леню [Зурова – А.Ш ], и за «барышень» [Степун и Кузнецову – А.Ш.], и за Мережковских, как это они ночью бегут в убежище – ведь З<инаида> Н<иколаевна> [Гиппиус – А.Ш .] ничего не видит и ничего не слышит.
Несколько писем, которые Вера Николаевна получает от знакомых и близких, подводят итог культурной жизни эмиграции 1930-х гг. Эти письма также приводятся в записях. Например, таково письмо от писательницы М. Каллаш, которое приводится в записи от 12 сентября 1939 г.:
Остановилась какая ни есть, все же культурная жизнь после 20 лет нашей плохонькой эмигрантской передышки, последовавшей за революцией. Впрочем, у меня не 20, а всего 16 лет этой передышки, а позади коммунистическая Москва со всеми ее ужасами <...> На нашу жизнь «порции», признаться, пришлись очень усиленные, и не знаешь, как их переварить [Бунина 1939].
Сходная интонация звучит в письме Л. Зурова, приведенном в записи от 13 сентября 1939 г.:
Спешно привожу все в относительный порядок. Складываю рукописи, распределяю по чемоданам. Литературную работу закончил. Жаль, что не сделал того, что мог бы сделать – не закончил книгу, к которой готовился несколько лет своей жизни. Экспедиционные материалы тоже в хаотическом состоянии, а там еще много важного для русской археологии.
Как много накопилось написанной бумаги, записных книжек!
У многих людей неожиданно оказались иностран<ные> паспорта. Для многих эта война – радость. Фондаминский и дру-г<ие> сияют <...> Много подлости, бездушия, безответственности. У меня такое чувство – при первых раскатах Божией грозы эмиграция развалилась. Наша молодежь брошена. Ее никто (кроме родных и молодых друзей) не провожает. Для нее не делается ничего. Заботятся только о своих. Такого я еще не видел. А я все же верил людям, несмотря на то, что часто поругивал их [Бунина 1939].
Зуров с горечью фиксирует эффект, который событие начала войны (в основном воссоздаваемое по слухам и переживаемое в напряженном ожиданий реальных действий) оказывает на эмигрантское сообщество. Люди в эмигрантских кругах оказываются по разные стороны баррикад (как, например, «беспечный» Фондаминский и упомянутый выше противник войны Михайлов). Большинство спасаются сами, пользуясь преимуществами иностранных паспортов (скрываемых до того момента). Уходит дух солидарности, так долго скреплявший парижское сообщество вместе. Приговор Зуров выскажет в одном из следующих писем, которое приводится в записи от 26 сентября 1939 г.:
Работы много. Справляюсь кое-как. Готовлю, стираю, узнаю новости, провожаю. Ушло очень много знакомых из молодых друзей. Часть их уже на фронте <...> Эмиграция распалась. Каждый предоставлен сам себе [Бунина 1939].
В заключение отметим, что событие начала Второй мировой войны в дневнике предстает как глобальный кризис, оттененный кризисом личным
(переезд из Бельведера). В то время, как кризис личный переживается непосредственно, война переживается в диалогах с другими – в переписке, слухах, сплетнях. По этой причине начало Второй мировой войны в дневниках В.Н. Муромцевой-Буниной воссоздано за счет нескольких повествовательных стратегий. Во-первых, это протокольное регистрирование конкретных фактов, чаще всего за счет перечисления конкретных деталей. Во-вторых, это размышления экзистенциального толка, переданные часто в режиме, напоминающем несобственно-прямую речь. В-третьих, это приведение эпистолярных свидетельств ближнего круга – вплетение чужих голосов в собственное я-повество-вание, создание богатой полифонии точек зрения в рамках дневника. Все три стратегии в дневнике реализуются в записях сентября 1939 г., при том, что первая и третья нередко сражаются за первенство. В итоге начало войны – событие столь реальное, сколько и воображаемое, достроенное в сознании за счет чужих пересказов и спекуляций. Коллективное воображаемое событие войны имеет значимые культурные последствия – распад парижских эмигрантских кругов.
Список литературы «Кончается и этот период жизни»: первые дни Второй мировой войны в дневнике В. Н. Муромцевой-Буниной за 1939 г.
- Бунина В.Н. Дневниковые записи 1939 г. // Русский архив в Лидсе. MS.1067/410.
- Громова А.В., Захарова В.Т. Жизнь и творчество Л.Ф. Зурова. М.: МГПУ, 2012. 134 с.
- И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. I / сост. О. Коростелев, Р. Дэвис. М.: Русский путь, 2004. 584 с.
- И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. III. "Когда переписываются близкие люди…" / сост. Е.Р. Пономарев, Р. Дэвис. М.: Русский путь, 2014. 714 с.
- Литературное наследство. Т. 84. Иван Бунин. Кн. 2. М.: Наука, 1973. 560 с.
- (a) Пономарев Е.Р. "Обнаженная" публичность литературы в русской эмиграции (И.А. Бунин в центре публичной сферы) // Slavic Literatures. 2024. Vol. 144-145. P. 41-64. EDN: ICERBE
- (b) Пономарев Е.Р. Раннее творчество В.Н. Муромцевой Буниной: генезис и поэтика // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2024. № 9. С. 251-264.