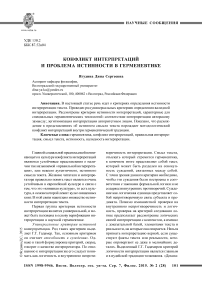Конфликт интерпретаций и проблема истинности в герменевтике
Автор: Ягудина Дина Сергеевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 2 (28), 2015 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье речь идет о критериях определения истинности интерпретации текста. Приведен ряд универсальных критериев определения валидной интерпретации. Рассмотрены критерии истинности интерпретаций, характерные для специальных герменевтических технологий: соответствие интерпретации авторскому замыслу; легитимизация интерпретации авторитетным лицом. Показано, что расхождение в представлениях об истинном смысле текста порождает методологический конфликт интерпретаций внутри герменевтической традиции.
Герменевтика, конфликт интерпретаций, правильная интерпретация, смысл текста, истинность, валидность интерпретации
Короткий адрес: https://sciup.org/14974704
IDR: 14974704 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Конфликт интерпретаций и проблема истинности в герменевтике
Главной социальной предпосылкой возникающего в культуре конфликта интерпретаций являются устойчивые представления о наличии так называемой «правильной интерпретации», или некоего аутентичного, истинного смысла текста. Желание читателя и интерпретатора правильно понять текст является очень устойчивым в европейской культуре в связи с тем, что это «книжная культура», то есть культура, в основе которой лежит культ священных книг. В этой связи накоплено множество истинности интерпретации текста.
Первая группа критериев истинности интерпретации является универсальной, и может быть положена в основу верификации интерпретации в научной герменевтике.
Универсальные критерии истинной интерпретации. Ряд таких критериев выделяет Г.Г. Гадамер. Так, основным критерием он считает способность к суждению. Однако в такой формулировке критерий, скорее, говорит о качестве интерпретатора. По отношению к интерпретации же его следует понимать как логичность и внутреннюю непроти- воречивость интерпретации. Смысл текста, отыскать который стремится герменевтика, в конечном итоге представляет собой текст, который может быть разделен на совокупность суждений, связанных между собой. С точки зрения данного критерия необходимо, чтобы эти суждения были построены в соответствии с законами формальной логики и не содержали внутренних противоречий. Суждение как логическая единица представляет собой непротиворечивую связь субъекта и предиката. Помимо имманентной проверки на внутреннюю непротиворечивость и логичность, проверка на критерий следования логике предполагает рассмотрение логических связей интерпретации с контекстом, а именно с доказательной базой, элементами текста и реальности, на которые она опирается. Нельзя признать интерпретацию верной, если существуют факты текста или реальности, которые опровергают ее даже в мельчайших деталях. Выделенный Г.Г. Гадамером критерий логичности интерпретации является главным и в иудейской традиции толкования. «Доказа- тельство, которое казалось очевидным, может быть отвергнуто из-за того, что найден элемент, показывающий даже в незначительной степени неубедительность логической конструкции» [7, с. 3].
Проверка логикой – первичная и базовая проверка, которую, как правило, проходят несколько интерпретаций. Однако во многих случаях ее бывает не достаточно для того, чтобы принять интерпретацию в качестве истинной.
Другим, более сложным критерием, является так называемый здравый смысл. Г.Г. Гадамер производит проблематизацию этого понятия и обзор различных возможных пониманий данного критерия. Исходя из проделанной им работы, можно сделать вывод, что критерий здравого смысла включает в себя два аспекта. Во-первых, это соответствие мировоззренческих пресуппозиций интерпретатора (легших в основу интерпретации) неким объективным (то есть разделяемым научным сообществом) представлениям о реальности и устройстве мира. Это могут быть как отрефлексированные установки, так и априорные формы сознания – «не рефлексивная категория, а идея, тема, схема сознания и поведения, элемент коллективного бессознательного» [3, с. 281]. Так, примером интерпретации, соответствующей здравому смыслу, будет интерпретация путевых заметок исходя из идеи того, что Земля является круглой. Итак, существует набор такого рода мировоззренческих установок, или пресуппозиций, которые закреплены в культуре и свойственны большинству людей и представляют собой так называемую объективную реальность. Если интерпретация исходит из иных, противоположных им, она будет признана неправдоподобной. Тем не менее в современном мире существует проблема объективности и поиска таких всеобщих установок, которые были бы однозначно признаны как имеющие отношение к здравому смыслу. Из-за большого количества субкультур и деления общества на микрогруппы количество общепризнанных объективных мировоззренческих установок у людей становится все меньше. В связи с этим то, что для одной социальной группы является здравым смыслом, другой может быть воспринято как ложное и даже бредоподобное. Поэтому особое значение в герменевтике приобретает вопрос о целеполагании интерпретатора и его целевой аудитории. Это важно, поскольку от цели интерпретатора и той публики, для которой предназначена его интерпретация, зависит выбор тех базовых установок, исходя из которых проводится интерпретация. Здесь становится очевидной связь интерпретации с риторикой, поскольку если толкователь хочет, чтобы его интерпретация была признана соответствующей здравому смыслу и принята в качестве истинной, ему необходимо ориентироваться на так называемый топос, а именно на те установки, которые разделяет его целевая аудитория.
С критерием здравого смысла в аспекте объективизации тесно связан критерий рационализации .
Следующим критерием правильной интерпретации является ясность . Еще И.М. Хладе-ниус в своей работе «Введение к правильному истолкованию разумных речей и произведений» предлагает в качестве основной задачи герменевтики достижение совершенного понимания текста, под чем подразумевает прояснение абсолютно всех темных мест в нем. Таким образом, интерпретация будет правильной, если она разъясняет непонятные места в тексте. Для соответствия этому критерию интерпретация, с одной стороны, сама должна быть ясной и не иметь в себе темных мест, а с другой стороны, должна быть достаточно полной для того, чтобы проливать свет на весь текст целиком – то есть интерпретация не должна исключать из сферы своего внимания какие-либо части текста.
Еще один критерий – предметность – представляет собой проверку на соответствие тексту и особенно актуален в случаях, когда интерпретация достраивает смыслы, подтверждения которым отсутствуют в тексте или контексте. Этот критерий отличается от проверки на логичность. В некоторых случаях в тексте и контексте могут отсутствовать факты, противоречащие интерпретации, и поэтому проверка на критерий логичности будет пройдена. Тем не менее ряд выводов интерпретации может быть сделан из додуманных, отсутствующих в тексте фактов, которые были привнесены интерпретатором и легли в основу интерпретации, хотя связь их с фактами текста неочевидна и слаба. В случае, когда нарушается соответствие этому критерию, интерпретации получаются чересчур свободными, не имеющими текстуального основания, и, соответственно, порождают между собой неразрешимые конфликты. Примером могут служить символические толкования, когда для интерпретации какого-либо символа в тексте используется нетипичное понимание этого символа.
Опора на выявленные универсальные критерии позволяет нам получить валидные интерпретации текста. Существует также ряд специфических критериев, получивших развитие в различных традициях, однако не являющихся универсальными.
Правильная интерпретация – та, которая обнаруживает смысл текста, заложенный туда автором , – эта идея о возможности восстановления авторского замысла принадлежит романтической эпохе. Призыв Ф. Шлейермахера понять автора лучше, чем он понимал себя сам, имеет непосредственную связь с этим критерием и выражает романтическую идею гениальности автора. Поскольку далеко не все авторы склонны к рефлексии и значительная часть смысла произведения попадает в текст от автора не в ходе осознанной планомерной работы, а через инсайт и озарение, то долг интерпретатора восстановить этот смысл, вложенный автором и ускользнувший от него самого. О таком историческом понимании истинного смысла говорит К. Спиноза в «Богословско-политическом трактате». Подобных взглядов придерживался В. Дильтей. Такое понимание смысла текста характерно для классической филологии, которое с течением времени было разрушено герменевтикой: «текст не может впоследствии значить что-то такое, чего он не значил изначально» [4, с. 72].
Тем не менее существует ряд аргументов против такого понимания истинной ин- терпретации, что делает его частным и специальным.
Например, существует следующая проблема, отмеченная И.Г. Дройзеном: как можно оперировать понятием «авторский замысел (смысл)» в случае, когда текстом являются исторические события, у которых нет замысла и автора? Эта проблема, в частности, актуальна для современного сознания. В эпоху постмодернизма, после провозглашенной символической смерти автора, когда в качестве набора символических знаков (то есть текста) может быть воспринят любой участок реальности, в том числе невербальный, данный критерий теряет смысл. Если весь мир – это текст, у которого нет автора, то данный критерий приводит нас к выводу, что смысла у текста нет, а следовательно, интерпретировать его бесполезно.
Тем не менее все вышеперечисленные аргументы, проблематизирующие данный критерий, не отменяют его вовсе. Данный критерий активно используется в различных интерпретациях, в том числе для разрешения конфликта интерпретаций. Такая точка зрения на истинный смысл предполагает обращение к биографическому методу, активно использующемуся в филологической герменевтике, и опирается на идею, что понимание жизни автора и его контекста могут разрешить конфликтную ситуацию через отбрасывание интерпретаций, в основе которых лежат лингвистические значения слов и идеи, которые были чужды автору текста.
Еще один критерий – это критерий авторитетности или легитимности. Правильная интерпретация – это легитимная интерпретация, то есть та, что признана властным влиятельным субъектом. Такого рода понимание правильной интерпретации является необходимостью, например, в юридической сфере и связано с особыми целями написания и толкования законодательных текстов. Совершение правосудия невозможно без установления правильной интерпретации закона. Дебаты и разногласия в суде зачастую строятся вокруг конфликта интерпретаций текста того или иного закона, и суду приходится выступать в качестве субъекта определения правильной интерпретации. Поскольку ситуация в юридической практике такова, что множественность правильных интерпретаций не предполагается, а расхождения в толковании ведут к нарушению принципа справедливости, то очевидной является необходимость механизма, позволяющего условно безошибочно устанавливать правильную интерпретацию с помощью авторитета.
Однако в таком понимании правильной интерпретации и механизме ее установления есть серьезные риски. Проблемой при таком понимании правильной интерпретации является чрезмерная ориентация на авторитет и, как следствие, возможность злоупотребления властью.
Проблема авторитетности ярко проявляет себя в традиции интерпретации русской клас- сической литературы. Активно развивавшаяся в XIX в. литературная критика в лице известных большинству современных россиян В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова и других заложила огромное количество ставших «правильными» в школьном смысле слова интерпретаций произведений литературной классики. Зачастую в школах дети изучают не столько само произведение, сколько эти интерпретации. Что удивительно, многие из них не только не являются единственно правильными, но и не выдерживают тщательной проверки. Примером может служить история понимания стихотворения А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье», привычная интерпретация которого в качестве любовного признания А.П. Керн не выдерживает проверки биографическим методом [2]. Таким образом, ориентация на авторитет является проблемой, поскольку из-за чрезмерного доверия толкователю его интерпретация принимается за истину иногда без должной проверки универсальными критериями.
Отсюда напрямую вытекает возможность злоупотребления властью, и она связана с ограничением свободы интерпретации. В истории существовали попытки запретить комментарии к тексту законов, как это было, например, в Баварии [8, с. 30]. Критерий авторитетности может полностью заменить другие очевидные критерии истинности интерпретации, такие как логичность, здравый смысл, соответствие тексту, вплоть до искажения фактов текста в пользу авторитета. Дабы избежать риска злоупотребления властью и монополии на интерпретацию, в современных демократических государствах существует механизм разделения власти. Так, в Российской Федерации в случаях возникновения конфликтов интерпретаций законов существует практика издания разъяснений, которой занимается судебная власть. Защитным механизмом от монополизации смыслов служат СМИ, недаром называемые «четвертой властью». Свобода интерпретации в публичном пространстве обеспечивает возможность панорамного взгляда на тексты и события, возникновения и разрешения на вербальном уровне конфликтов интерпретаций.
С точки зрения такого понимания истинной интерпретации конфликт интерпретаций является нежелательным, так как воспринимается авторитетным субъектом как посягательство на его действительную власть и, следовательно, может перейти в конфликт силовой. Тем не менее критерий авторитетности является крайне важным в том случае, когда другие критерии не позволяют сделать выбор в ситуации конфликта интерпретаций, и при этом существует жесткая необходимость выяснения истины. Примером, как уже было упомянуто выше, может служить разбирательство в суде. Такого рода решения налагают большую ответственность на авторитетного субъекта и требуют от социума и государства бдительности и жестких механизмов контроля за принимающими решения. Например, таким механизмом в России и других странах служит система обжалования судебных решений.
Итак, различные представления о критериях истинности интерпретации являются социокультурными предпосылками возникновения феномена конфликта интерпретаций. По сути, описанные выше два подхода уже являют нам конфликт интерпретаций, возникший на методологическом и мировоззренческом уровне. Этот конфликт является философским, поскольку разрешить его не представляется возможным иным способом, кроме как через выход на уровень философской рефлексии и признания всех представлений об истине валидными и ценными для культуры в целом.
Список литературы Конфликт интерпретаций и проблема истинности в герменевтике
- Гадамер, Г. Г. Истина и метод: основы философской герменевтики/Г. Г. Гадамер. -М.: Прогресс, 1988. -704 с.
- Калашников, С. Б. «Цель поэзии -поэзия»: об одном метасюжете пушкинской лирики/С. Б. Калашников//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8, Литературоведение. Журналистика. -2010. -№ 9. -С. 11-21.
- Касавин, И. Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка/И. Т. Касавин. -М.: Канон+, 2008. -544 с.
- Компаньон, А. Демон теории/А. Компаньон. -М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. -336 с.
- Талейсник, С. Все «ботинки» Ван Гога/С. Талейсник. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://7iskusstv.com/2012/Nomer11/Talejsnik1.php. -Загл. с экрана.
- Хайдеггер, М. Исток художественного творения/М. Хайдеггер. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.heidegger.ru/documents/tom5/istok.doc. -Загл. с экрана.
- Штейнзальц, А. Введение в Талмуд/А. Штейнзальц. -М.: Курчат. ин-т, 1993. -371 с.
- Lieber, F. Legal and political hermeneutics/F. Lieber. -St. Louis: F. N. Tomas ans Company, 1880. -352 p.