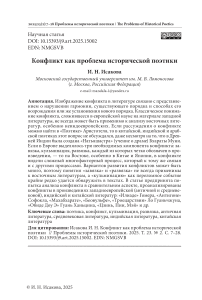Конфликт как проблема исторической поэтики
Автор: Исакова И.Н.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Изображение конфликта в литературе связано с представлением о нарушении гармонии, существующего порядка и способах его возрождения или же установления нового порядка. Классическое понимание конфликта, сложившееся в европейской науке на материале западной литературы, не всегда может быть применимо к анализу восточных литератур, особенно неиндоевропейских. Если рассуждения о конфликте можно найти в «Поэтике» Аристотеля, то в китайской, индийской и арабской поэтиках этот вопрос не обсуждался, даже несмотря на то, что в Древней Индии была создана «Натьяшастра» (учение о драме) Бхараты Муни. Если в Европе выделялось три необходимых компонента конфликта: завязка, кульминация, развязка, каждый из которых четко обозначен в произведении, — то на Востоке, особенно в Китае и Японии, в конфликте видели сложный многофакторный процесс, который к тому же связан и с другими процессами. Вариантов развития конфликтов может быть много, поэтому понятия «завязка» и «развязка» не всегда применимы к восточным литературам, а «кульминацию» как переломное событие крайне редко удается обнаружить в текстах. В статье предпринята попытка анализа конфликта в сравнительном аспекте, проанализированы конфликты в произведениях западноевропейской (античной и средневековой), индийской и китайской литератур: «Илиаде» Гомера, «Антигоне» Софокла, «Махабхарате», «Беовульфе», «Троецарствии» Ло Гуаньчжуна, «Обиде Доу Э» Гуань Ханьцина, «Цзинь, Пин, Мэй» и др.
Поэтика, конфликт, кульминация, развязка, античная литература, средневековая литература, индийская литература, китайская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/147248207
IDR: 147248207 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15002
Текст научной статьи Конфликт как проблема исторической поэтики
Т еория литературы как научная дисциплина сформировалась в Европе в XIX в. и строилась на материале западноевропейских литератур. Восточные литературы, особенно дальневосточные, развивались несколько иначе, в их основе лежали другие философские и религиозные доктрины. Очевидно, что конфликт — это универсальная основа для сюжета. Противоречия могли быть очень похожими в разных культурах, но способы осмысления и разрешения этих противоречий могли существенно различаться.
В статье, возможно, впервые (во всяком случае, нам неизвестны подобные работы) предпринимается попытка рассмотреть конфликт как категорию поэтики именно в сравнительном аспекте . При этом к анализу привлекаются произведения основных восточных традиций: Южного и Дальнего Востока. В результате представление о конфликте в литературе несколько углубляется и уточняется. Расширение «географии» литературных традиций явно будет способствовать дальнейшему уточнению термина «конфликт».
Конфликтом в литературе называется противостояние персонажей, групп лиц, противоречия в душе героя, которые подталкивают того или иного героя (тех или иных героев) к каким-либо действиям. «Конфликт» — сравнительно новый термин в литературоведении (используется начиная с 1960-х гг.)1, пришедший из психологии, где обозначает любое столкновение взглядов, целей, мнений и др. (от лат. conflictus — столкновение). Существует раздел психологии — конфликтология, где изучаются виды конфликтов и способы их разрешения (см., напр.: [Кашапов, Фи латова]).
Стоит отметить, что в психологии понятие «конфликт» не всегда несет негативную окраску, исследователи подчеркивают, что конфликты — естественная составляющая общества, у членов которого могут быть разные цели, непохожие взгляды и т. п. Но способы решения конфликтов могут быть самые разные — и задача психологии заключается во многом в том, чтобы научить людей грамотно выходить из конфликтов. В литературе же, как правило, изображаются острые противоречия, где затрагиваются принципиальные вопросы, герои не готовы менять свои взгляды, а иногда и линию поведения (см., напр.: [Коваленко]).
Понятие «конфликт» в поэтиках не встречается, так как внимание поэтологов в первую очередь было уделено воздействию произведения на читателя. Это очевидно при сопоставлении всех поэтик (античной, индийской, арабской, китайской), особенно индийской и античной, где в фокус внимания поэ-тологов попадали драматические и эпические тексты (см., напр.: [Гринцер]). В этом отношении показательно понятие катарсиса — главной цели, к которой стремился античный драматург. Неслучайно Аристотель советовал строить пьесы на перипетиях и узнаваниях — такая композиция будет производить наиболее сильное впечатление на зрителей. Фабулу он считал «душой трагедии» и утверждал, что трагедия не может существовать без нее, а без характеров могла бы: «…без действия трагедия невозможна, а без характеров возможна» [Аристотель: 49]. Характеры, а тем более конфликты, были не очень важны для Аристотеля — он ценил трагедии, «имеющие фабулу и надлежащий состав событий» [Аристотель: 49].
Более ярко теория воздействия представлена в индийской поэтике, где было сформировано учение о «расах» (от санскрит. rasa — вкус), то есть эстетических эмоциях, которые должен испытывать зритель во время спектакля (выделено 10 основных). Согласно древнеиндийскому философу Бхарате Муни (жил и творил между II в. до н. э. и II в. н. э.)2, чтобы произведение вызвало ту или иную «расу» (эстетическую эмоцию) у зрителя, ему необходимо отождествить себя с героями произведения, — при этом сами характеры, а тем более конфликты между героями поэтологам были практически не интересны. И в целом санскритская драма, на основе которой создавалась «Натьяша-стра», была весьма условна [Гринцер].
Завязка, кульминация, развязка — термины, сформировавшиеся в поэтике и перешедшие в теорию литературы, — до сих пор часто обозначаются как стадии развития действия, хотя правильнее их относить к конфликту, поскольку они связаны не столько с действиями персонажей, сколько с напряжением душевных сил (в этом отношении особенно показательно определение кульминации).
Вряд ли случайно, что античная и восточные поэтики строились на разных онтологических категориях. Особенно ярко это проявляется при сопоставлении мифов. Если в античной мифологии появление новых богов всегда сопровождалось жестокой борьбой, в результате которой проигравшие неизменно заключались в Тартар (Уран, Крон, титаны), то в индийской «старые» и «новые» боги могли сосуществовать. Например, Индра как верховный бог уступает место Брахме, сохраняя свои функции, но становясь второстепенным богом.
Впрочем, определения «старый» / «новый» некорректны по отношению к индийскому пантеону. Так, Шива вроде бы относится к «новым» богам, но очевидно имеет доведические корни — в частности, его часто называют Рудрой3, то есть богом бури. Для нас важнее другое: как бы ни менялся древнеиндийский пантеон, боги всегда мирно решали все вопросы. Масштабные конфликты возможны только между людьми, а боги вмешивались в них, чтобы люди не уничтожили землю. В античной же мифологии боги нередко провоцировали конфликты между людьми и даже активно помогали той или иной стороне (яркий пример — миф о яблоке раздора, который привел к Троянской войне).
Неудивительно, что конфликт как энергия действия за ключается в э тимологии слова «драма». В. Н. Ярхо пишет:
«У нас принято переводить термин "драма" словом "действие", хотя если говорить о действии в физическом смысле, то его гораздо больше в одной пеcне "Илиады", чем во всех трагедиях Эсхила, вместе взятых. В отличие от других греческих глаголов, обозначающих действие как направленное к определенной, конкретной, практической цели, глагол "дран", от которого происходит "драма", обозначает действие как проблему, охватывает такой отрезок во времени, когда человек решается на действие, выбирает линию поведения и вместе с тем принимает на себя всю ответственность за сделанный выбор» [Ярхо: 73]. Санскритское слово «натья» можно перевести как «представление», «ритуал», «драма» — как род литературы. Очевидно, индийцы ценили в драме иные стороны, акцент ставился на красивом исполнении, поддержании основ мироздания. Вряд ли случайно то, что индийская литература не знала трагедии в привычном нам понимании; все индийские пьесы больше всего похожи на комедии. Трагические финалы недопустимы, так как свидетельствуют о неумении человека решать проблемы и духовно развиваться. Успешное решение задачи, особенно архисложной, которое должно завершиться наслаждением новой жизнью, — отличительная черта духовно развитого человека.
Не менее показательно различное отношение к спорам в Древней Греции и в Индии. В Греции спор возникал в рамках судебных и политических процессов и мог закончиться либо победой, либо поражением, а задача спорящих — любой ценой убедить слушающих в своей правоте. В Индии же спор — часть философии, которая, с нашей точки зрения, больше напоминала беседу, где задача спорящих заключалась в высказывании такого суждения, на которое можно было бы ответить, при этом не повторяя уже высказанные мысли. Невозможность ответить на реплику расценивалась как катастрофа, за это философа могли казнить. Таким образом, цель спора — поддержание мирового порядка.
В китайской литературе часто можно встретить тексты, построенные как диалоги Конфуция и учеников, в ходе которых древний философ демонстрировал ученикам возможность посмотреть на ситуацию под другим углом зрения, что в итоге приводило к более глубокому пониманию жизни в целом. При этом в культуре Китая конфуцианство всегда сосуществовало с даосизмом. Более того, хотя взгляды Конфуция и Лао-цзы во многом различались, философы никогда не доходили до антагонизма. Их позиции, скорее, дополняли друг друга. Конфуций говорил о должном, облекал свои взгляды в теорию; Лао-цзы был ближе к природе, рассуждал о реальности, мысли его представляли свободный поток.
Однако все сказанное выше не означает, что какие-то культуры не знали конфликтов, — человеческая природа везде одинакова. В литературе любого периода, а также в фольклорных и мифологических текстах легко можно обнаружить конфликты.
Тем не менее в разные исторические эпохи представление о конфликте неодинаково. В связи с этим явления, которые современным человеком воспринимаются как конфликты, могли иначе осознаваться в традиционной культуре. Со временем могут меняться способы выхода из конфликта. Один и тот же конфликт может по-разному воплощаться в сюжете. Например, в пьесе Ф. Лопе де Вега «Собака на сене» представлен традиционный конфликт несчастных влюбленных и норм феодального государства, в котором брак возможен только между людьми, занимающими одинаковое положение в обществе. Поэтому нам представляется целесообразным разграничить понятия «конфликт» и «сюжет»: одно и то же событие или взаимодействие героев может быть совершенно по-разному представлено на разных исторических этапах.
В литературе конфликт всегда должен быть внешне выраженным. Например, в гомеровской «Илиаде» Ахилл четко говорит, что поступок Агамемнона, отобравшего у героя пленницу Брисеиду, является несправедливым. Агамемнон же считает свои действия обоснованными. Конфликт разрешается только тогда, когда Брисеида возвращается Ахиллу. Герои открыто озвучивают то, что их не устраивает.
В других случаях персонаж может молчать, но его поступки весьма красноречивы. Необязательно объяснять, почему богатырь решается сразиться с драконом, дивом и др., достаточно указать, что богатырь готовится сразиться (находит оружие, ищет встречи с противником). Часто антигерой ничего плохого лично богатырю не сделал — персонаж вступается за других: освобождает от змея девушек, простой народ и др. Читателю очевидны мотивы поступков персонажей. Если же конфликт слабо выражен или герой скрывает свои чувства, или же герой/герои не осознают, что они находятся в конфликте, то предполагается, что конфликт отсутствует.
Например, в «Махабхарате» Арджуне очень сложно решиться вступить в бой против Бхишмы, к которому он испытывает любовь и уважение. С современной точки зрения у него конфликт долга и чувства, но в Древней Индии читатели не воспринимали этот конфликт, так как в тексте ни слова не сказано о столкновении эмоций в душе героя. Однако при этом в древности четко осознавали, что с героем «что-то не так», т. е. по каким-то причинам Арджуна не готов к битве с Бхишмой. Важно, что и сам Арджуна это понимает, и даже говорит, что не может поднять руку на деда, потому что воспоминания о детстве, когда он сидел на его коленях, играл с ним, свежи в его душе. Но вместо погружения в конфликт Арджуна ищет выход из ситуации, поэтому обращается за помощью к Кришне. На некую противоречивость поведения Арджуны давно уже обратили внимание специалисты: герой говорит Кришне, что не может вступить в бой с Бхишмой, — и замолкает, смотрит на Кришну, т. е. явно ждет от него какой-то реакции. Фактически это просьба о помощи, которую Кришна интуитивно считывает и произносит длинный монолог («Бхагавадгиту»)4, где подробно объясняет законы мироустройства, человеческую природу, различные способы совершения деяний. Арджуна, внимательно выслушав Кришну, чувствует, что готов к бою, в его душе воцаряется гармония.
Казалось бы, можно говорить о снятии конфликта, но в древности эта ситуация осмыслялась иначе. Судьбой Арджуне предначертано совершить подвиг, об этом знают и он сам, и Кришна, и Бхишма, поэтому эмоционально герой может быть настроен только на победу. Если он по каким-то причинам настроен иначе — значит, еще не пришло время для решительного боя с Бхишмой и нужно готовиться к нему, причем готовиться эмоционально. Показательно, что и Бхишма далеко не сразу был готов к последнему бою с Арджуной (они несколько раз сталкивались, но каждый раз Бхишма уходил невредимым). Арджуна не может победить до тех пор, пока не узнает секрет деда.
Мотив выяснения уязвимого места противника широко распространен в мировой литературе, причем, как правило, это часть конфликта. Поэтому антигерой обычно сначала втирается в доверие к протагонисту, обманом узнает уязвимое место противника (для этого могут быть использованы посредники) и наносит удар в тот момент, когда благородный герой этого не ждет.
Однако в «Махабхарате» ситуация совершенно иная: Бхиш-ма любит Арджуну, который, в свою очередь, уважает деда. Человеческие отношения оказываются превыше социальных, поэтому Бхишма должен добровольно раскрыть противнику, каким способом можно его убить. И Арджуна, уже эмоционально готовый к решительному бою с Бхишмой, ждет, когда тот тоже будет эмоционально готов к этому бою, то есть к смерти. Фактически в данном эпизоде судьба совершается не вопреки воле героя/героев, а в согласии с ней. Именно поэтому противоборство Арджуны с Бхишмой тоже не осознается ни ими самими, ни создателем произведения как конфликт: в сущности, это взаимодействие героев в сложной жизненной ситуации.
Для сравнения: Кришна до начала битвы на Курукшетре5 пытался договориться с кауравами6 (т. е. решить конфликт дипломатическим путем), но едва не погиб от рук Дурьодханы7. Очевидно, что Дурьодхана находится в глубоком конфликте с Пандавами, поэтому разрешиться такое противоречие может только смертью одной из сторон.
Итак, конфликты в литературе всегда осознаются героями, а также всегда внешне выражены. Из этого вытекает вторая важная особенность конфликтов — четкие границы: есть момент начала конфликта и есть момент окончания. В этом проявляются представления о гармоничном устройстве мира, о порядке как норме жизни, которую конфликт нарушает, причем резко и часто неожиданно. Так, в трагедии Софокла «Антигона» началом конфликта стал запрет Креонта хоронить Полиника. Тем самым Креонт нарушает божественный закон, что приводит к катастрофическим последствиям. Развязка — самоубийства Антигоны, Эвридики и Гемона; Креонт осознает ошибочность своего решения и изменяет его (хотя повлиять на последствия уже не может). Таким образом, гармония восстановлена: воля богов исполняется людьми.
На примере данной пьесы можно увидеть, по какой модели в литературе развивается конфликт. После завязки идет нарастание напряжения, в том числе и связанное с тем, что герои, несмотря ни на что, не отступают от принятого решения, и постепенно в конфликт втягиваются другие персонажи, например, Гемон. Причем, чем больше лиц втянуто в конфликт, тем острее он становится, тем сложнее разрешить его без жертв, количество которых также может вырасти по ходу развития конфликта. Так, смерть Антигоны неизбежна уже в начале пьесы, даже в глазах современного зрителя, который может быть не знаком с античной мифологией. Антигона четко говорит, что вне зависимости от развития событий (в том числе — вопреки воле царя) будет следовать моральным нормам, и осознанно выбирает смерть (о чем впоследствии прямо сообщает Креонту). Но гибель Эвридики и Гемона является следствием дальнейших событий. Самоубийство Гемона происходит после его разговора с Креонтом, где сын пытается раскрыть глаза отцу, привести его к осознанию ошибочности своих действий. Однако Креонт непреклонен — смерть Ге-мона становится неизбежной. Смерть Эвридики является непосредственной реакцией на гибель сына. В этом Креонт вроде бы не виноват, но он нарушает гармоничное состояние мира, фактически запускает разрушительный процесс, который уже не может контролировать, поэтому на нем лежит вина за все последствия. В конце концов конфликт приходит к кульминации. В данной пьесе кульминацией является страх Креонта за сына, что заставляет героя изменить свою линию поведения. События устремляются к развязке, то есть к восстановлению гармонии, пусть и ценой жизней нескольких героев.
Кульминация может произойти, когда одна из сторон конфликта (чаще в битве) решает применить какое-то принципиально новое средство. Так, Беовульф в борьбе с матерью Гренделя вдруг вспоминает про огромный древний меч, которым можно было победить чудовище, — меч Беовульфа не справляется с этой задачей. Одна из сторон может пойти на хитрость — как, например, ахейцы, подарившие троянцам коня. В любом случае кульминация — это предел развития конфликта, предел дисгармонии. В некоторых случаях (в «Бео-вульфе») во время кульминации определяется победитель. Дальнейший ход сюжета показывает, каким именно способом один герой (или одна из противоборствующих сторон) придет к победе, а другой — к поражению, то есть будет дано внешнее воплощение того, что уже случилось, но пока не очевидно или же заметно лишь проницательному стороннему наблюдателю — например, богам.
Кульминация в драматическом произведении, как правило, четко выражена, однако в некоторых литературах встречаются произведения, где кульминация размыта. Такова, например, пьеса китайского автора Гуань Ханьцина «Тронувшая Небо и Землю обида Доу Э» (1292)8. Особенность этой пьесы заключается в том, что в ней события происходят, а потом неоднократно рассказываются — причем разными персонажами. И после каждого акта рассказывания меняется ход событий. Главная героиня Доу Э не по своей воле (и не по своей вине) оказывается в трудной жизненной ситуации, включена в сложные взаимоотношения разных персонажей — от этого зависит и ее жизнь. Например, Доу Э подчиняется свекрови, терпит присутствие в доме Чжана и его сына, хотя и наотрез отказывается выйти замуж за Чжана Осленка. Ситуация выглядит относительно благополучно — однако ни свекровь, ни Доу Э не осознают, насколько опасными являются живущие в их доме мужчины. В итоге молодую женщину обвиняют в убийстве, которого она не совершала, и затем казнят. Первый раз Доу Э рассказывает о случившемся судье довольно спокойно, так как уверена, что не могут казнить невиновную. Второй раз она поет о случившемся, когда ее ведут на казнь. Таким образом, героиня осознает произошедшее, сравнивает себя с другими, невинно осужденными. По дороге она встречает свекровь и еще раз ей рассказывает все, как было, и просит после ее смерти в первый и пятнадцатый день каждого месяца ставить для нее полчашки каши и сжигать немного жертвенных денег. Затем она снова поет о своей жизни, и в итоге ее охватывает глубочайшая обида, перерастающая в страстное желание доказать невиновность. Доу Э предсказывает, что ее кровь не прольется на циновку, после казни выпадет снег и три года на земле будет засуха. Все это — знаки ее невиновности.
Показательно, что казнь Доу Э не является развязкой конфликта — конфликт выходит на новый уровень. В округ приезжает чиновник, отец покойной Доу Э, который должен разобраться с судебными делами. Дело заглавной героини он не хочет рассматривать и кладет вниз. Однако дух Доу Э перекладывает дело выше, причем ситуация повторяется несколько раз. Затем дух является чиновнику и рассказывает, что произошло. Доу Тянь-чжан начинает расследование — в результате невиновность героини была полностью доказана, а персонажи, причастные к ее смерти, понесли заслуженное наказание. Зритель может увидеть кульминацию пьесы в разных эпизодах: во время пыток Доу Э, в момент признания героиней вины в том, что она не совершала, перед казнью, когда она кричит о своей невиновности. Поворот в ходе сюжета связан с признанием невиновности Доу Э, но конкретное событие, являющееся кульминацией, сложно обозначить.
Применительно к данной пьесе можно говорить о кульминации в сознании главной героини. Доу Э перед казнью рассказывает свою историю и сопоставляет ее с похожими случаями. В этот момент героиня сменяет пассивную позицию на активную — она требует признания своей невиновности. Показательно, что ее невиновность должна быть обязательно задокументирована: в этом заключается ее последняя просьба к Доу Тянь-чжану. Как только молодая женщина начинает действовать доступными ей способами, события движутся к развязке. Здесь, вероятно, проявляется характерная для китайской литературы поэтика скрытости: внешнее событие только намекает на глубинный процесс.
Конфликты в традиционной литературе всегда разрешены, причем окончательно, — мир снова становится стабильным и нерушимым. Из-за этого перед авторами возникали определенные трудности. В древности, вероятно, уже было понимание того, что разрешение одного конфликта может стать началом другого и на самом деле гармония может быть не достигнута. А если развить мысль, то вполне можно было бы усомниться в существовании гармонии в принципе. Такие сомнения для древних людей были ужасны, и они старались об этом не думать — необходимо было поддерживать веру в существование гармоничного мира. Именно это подтолкнуло древних людей к представлению о действительности, в которой нет и не может быть сложных и неоднозначных жизненных ситуаций. Вследствие этого в литературе представлены самые разные способы приведения сложных ситуаций к простым и понятным схемам.
Вероятно, поэтому почти повсеместно авторы брали для своих произведений мифологические сюжеты. При этом сложный мифологический сюжет нередко дробился на ряд самостоятельных. Так, существуют мифы о Ясоне и Медее, на основе которых вполне можно было бы написать большое произведение — например, эпическое. Однако в таком случае пришлось бы выстраивать сложные причинно-следственные связи между, скажем, желанием Ясона добыть золотое руно и страстной любовью Медеи к Ясону, которая затем обернулась не менее страстной местью. Поэтому в греческой литературе можно найти разные произведения, основанные на этом мифе, и конфликты в них будут существенно отличаться: поэма Аполлония Родосского «Аргонавтика», трагедия Еврипида «Медея»9. Существует также цикл трагедий, посвященных царю Эдипу и его детям. Весьма симптоматично, что Аристотель в «Поэтике» пишет: Гомер «и не попытался изобразить всю войну, хотя она имела начало и конец. Его поэма могла бы выйти в таком случае слишком большой и неудобо-обозримой, или, получив меньший объем, запутанной вследствие разнообразия событий»; фабулы «должны быть драматичны по своему составу и группироваться вокруг одного цельного и законченного действия, имеющего начало, середину и конец» [Аристотель: 70].
Другой вариант представлен в индийской «Махабхарате», где есть основной сюжет, включающий многочисленные эпизоды, которые могут создавать обширные ответвления от основной линии. Целостность конфликта создается благодаря многочисленным рассуждениям о судьбе, предопределенности и предначертанности. Исход конфликта обеим сторонам известен заранее, однако маршрут к финалу, видимо, во многом зависит от совокупных действий всех участников.
Данное произведение уникально тем, что в нем огромную роль играют персонажи-стратеги, одновременно являющиеся и участниками важных сражений. Это Кришна и Юдхиштхира. Именно они продумывают стратегию битвы на Курукшетре, исходя из которой определяют первоочередные задачи. Можно сказать, что весь конфликт находится под их контролем. Важно, что герои постоянно прямо говорят, что их цель — восстановление гармонии, спасение мира, в то время как их противники во главе с Дурьодханой ведут мир к гибели. На протяжении всей «Махабхараты» неоднократно подчеркивается, что Кришна и Арджуна — персонажи, сыгравшие ключевую роль в битве на Курукшетре, — являются земными воплощениями богов Нары и Нараяны. Стоит отметить, что они действуют вполне как люди (и могут быть убиты), не всегда справляются со своими эмоциями, совершают ошибки. Однако при этом в них человеческая природа соединяется с божественной. Они действуют не из личных интересов (в частности, не ставят задачу вернуть земли, которые кауравы у них отняли обманом), их цель — сохранение мира, планеты, жизни на Земле.
Более того, в «Махабхарате» прослеживается мысль, что Нара и Нараяна, очевидно, уже не первый раз приходят на Землю в человеческом воплощении. Они делают это всякий раз, когда у власти оказываются цари, подобные Дурьодхане, которые ведут мир исключительно к гибели. Люди, даже цари, не в состоянии противостоять таким, как Дурьодхана, поэтому необходимо вмешательство божественных сил. Задача богов — сохранить жизнь на Земле. После того, как окончательный мир установлен, Нара и Нараяна уходят на небеса.
Таким образом, в «Махабхарате» также прослеживается характерное для древности представление о конфликте как о нарушенной гармонии с обязательным ее последующим восстановлением. Однако при этом обнаружить какие-то явные точки начала конфликта (завязку), как и его окончания (развязку) не представляется возможным. «Махабхарата», возможно, единственное произведение древности, где в финале четко прослеживается мысль, что гармония, безусловно, восстановлена, мир спасен, но это уже не та гармония, которая была раньше, и персонажи также не совсем такие, какими они были до начала конфликта. Жизнь идет своим чередом, и изображенный конфликт — лишь часть огромного жизненного процесса, природа которого является цикличной. Конфликт пандавов и кауравов вписывается в философское представление о Махаюге как смене четырех эпох. И самую страшную из них — Калиюгу — еще предстоит пережить. При этом конфликт пандавов и кауравов, безусловно, исчерпан.
Другой вариант ухода от осмысления конфликтов как связанных между собой — воссоздание таких ситуаций, когда решение одной задачи провоцирует появление следующей. Эта структура чрезвычайно широко представлена в фольклоре разных стран, особенно в сказках. В литературе элементы такого сюжета можно увидеть, например, в «Беовульфе»: смерть Гренделя знаменует начало конфликта Беовульфа с матерью Гренделя. Но в самой поэме эти конфликты осмысляются как самостоятельные, каждый из которых имеет собственное начало и конец.
В больших по объему произведениях можно наблюдать огромное количество конфликтов, которые могут быть сведены к одному масштабному. Например, «Махабхарату» можно свести к битве пандавов и кауравов на Курукшетре, которая обросла огромным количеством относительно самостоятельных эпизодов, и в каждом из них наблюдается свой конфликт (например, битва Карны с Гхатоткачей).
Но в то же время каждый эпизод — шаг либо к нарастанию основного конфликта, либо к развязке. Так, битва Карны с Гхатоткачей может рассматриваться как шаг к развязке, поскольку копье Карны потеряло чудодейственную силу и уже не грозит Арджуне неминуемой гибелью. Другой пример: в «Илиаде» Гомера после смерти Патрокла Ахилл возненавидел Гектора как убийцу своего друга. Появление у Ахилла личной ненависти, жажды отмщения явственно указывает на то, что скоро Гектор погибнет от его руки.
Для китайской культуры мир — это, скорее, совокупность бесконечных процессов, разрешение конфликта может представлять собой его перетекание в новую форму, а явно выраженной точки начала/финала конфликта может и не быть. Ярким примером подобного является роман «Цзинь, Пин, Мэй» (1617)10, в финале которого главный герой Симэнь Цин умирает, но рождается его сын (или это реинкарнация главного героя?). Сын будет вести праведную жизнь, чтобы замолить грехи отца (или свои собственные?). Смерть героя — это промежуточный результат, процесс идет дальше: он начался при жизни героя и продолжается после его смерти.
Однако от поведения героев во многом зависит дальнейшее развитие конфликта. «Цзинь, Пин, Мэй» — уникальное произведение средневековой литературы, в котором показаны два возможных варианта развития событий (при этом важно, что реализоваться мог каждый из вариантов!). В конце романа к Юэнян (матери сына Симэнь Цина) приходит буддийский монах и просит отдать ему мальчика, чтобы тот стал монахом. Сначала Юэнян ему отказывает. Во сне ей открывается страшное будущее, которое ждет ее и ребенка, после чего героиня меняет свое решение. К счастью, ей удается найти монаха и отдать ему сына на воспитание. В конце романа говорится о следующих реинкарнациях многих персонажей. В то же время герой наказан отсутствием потомства. Его единственный сын должен стать монахом. Он, конечно, будет замаливать грехи отца, но детей у него не будет, то есть не будет потомства и у Симэнь Цина.
Начало конфликта тоже далеко не всегда является ярко выраженным. Например, сложно вычленить завязку в романе Ло Гуаньчжуна «Троецарствие»11: не сказано, с какого именно момента начался процесс распада страны на отдельные княжества (или сам процесс — тоже следствие, например, стремления Цао Цао к власти, которое в свою очередь является следствием слабости императора). Более того, не сказано даже, что в какой-то момент герои осознали, что процесс начался. Любое осознание показано как процесс, как ход мысли того или иного героя.
В китайской литературе конфликт осмысляется как некий процесс, на который способны влиять только поистине мудрые герои. Такими являются Лю Бэй или Чжугэ Лян. В начале романа Лю Бэй понимает, что Поднебесная распадается на ряд княжеств. Сначала он пытается остановить этот процесс, но у него ничего не выходит. Это значит, что он не понимает сущности происходящих процессов, не умеет встроиться в масштабные изменения, поэтому его действия бесполезны, а может быть, даже и вредны. Через какое-то время герой осознает, что процесс распада на княжества вполне закономерен, его нельзя не только остановить, но даже затормозить. Но это не значит, что нельзя повлиять на структуру этого распада, то есть в каком-то смысле его контролировать и корректировать этот распад. Княжества должны распадаться таким образом, чтобы в дальнейшем их было легче объединять, причем сначала в более крупные, которые потом станут снова единым государством. При этом герой понимает, что главная цель его жизни — объединение Поднебесной — слишком масштабна и, скорее всего, она не будет достигнута при его жизни. Но это не останавливает Лю Бэя: он не меняет свою цель и все равно идет к ней.
Китай действительно вновь объединился, хотя все главные герои к тому времени давно уже умерли, объединился совсем не так, как когда-то предполагал Лю Бэй. Ханьская династия, о восстановлении которой он мечтал, все равно пала, на смену ей пришла Цзинь, а вместе с ней и новые ценности. Государство было основано военачальником, который представлял себе пирамиду власти совершенно иначе, чем это было в эпоху Хань.
В основе конфликта романа лежат не противоречия между людьми, а процесс фундаментальных изменений в жизни общества, одним из проявлений которого стали масштабные социальные конфликты. Принципиальное отличие от европейского понимания конфликта здесь заключается в том, что внешние противоречия, какими бы яркими они ни были, указывают лишь на масштабность и остроту конфликта, но не на его сущность. Глубинная сущность всегда представляет собой естественные жизненные процессы, направление которых никоим образом не зависит от человека (ни даже от всех людей), но формы его проявления во многом определяются поведением людей. Например, Лю Бэй быстро понимает, что противодействовать Цао Цао он не может, и обращается за помощью к Чжугэ Ляну, который пусть не сразу, но все же смог успешно сражаться с Цао Цао.
Попытка хоть как-то действовать, ориентируясь на свои цели и желания, приведет к катастрофе. В этом отношении показательна последняя битва Чжугэ Ляна, которую он проиграл молодому и неопытному военачальнику лишь потому, что решил выступить в поход, несмотря на неудачно выбранное время. Поражение Чжугэ Ляна объясняется исключительно тем, что он как бы выпал из течения жизни, поэтому любое его действие обречено на провал.
Однако в целом в традиционной литературе сохраняется тенденция к изображению внешне выраженных конфликтов, сначала нарастающих, а затем идущих на спад. Не обязательно это будет яркая кульминация — это может быть некое «кульминационное поле», ведущее к спаду напряжения. В больших по объему произведениях «кульминационное поле» может оказаться своего рода «синусоидой», которая, однако, в любом случае будет снижать напряжение.
Восприятие конфликта как нарушенной гармонии с обязательным последующим ее восстановлением привело к тому, что в литературе сформировалось представление о завязке и развязке как начале и конце конфликта. Это наиболее распространенное, но не единственное понимание конфликта. В китайской культуре и отчасти в индийской отдельный конфликт мыслился как одно из проявлений масштабных жизненных процессов. При таком понимании конфликта сложно говорить о завязке, развязке и кульминации как ключевых его моментах.
Проведенный анализ демонстрирует принципиальные различия в понимании и художественном воплощении конфликта в западной и восточной литературных традициях. В европейской литературе, начиная с античности, конфликт предстает как открытое столкновение противоположных сил, требующее разрешения. Финал конфликта — победа или поражение. В восточных же традициях, особенно в индийской и китайской литературах, конфликт чаще осмысляется как естественная фаза в циклическом процессе бытия, в результате чего герои духовно развиваются, а мир может измениться. При этом конфликт, как правило, не имеет четких границ начала и конца.
Эти различия коренятся в фундаментально разных мировоззренческих парадигмах: если западная традиция акцентирует индивидуальное действие и личную ответственность, то восточная — гармонию человека с миром, принятие существующего миропорядка и предопределенности.
Таким образом, сравнительный анализ конфликтов в западных и восточных литературах не только углубляет понимание их культурных и философских основ, но и ставит вопрос о необходимости более гибкого подхода к термину «конфликт» в теории литературы. Учет культурной специфики позволяет избежать упрощений и расширить рамки литературоведческого анализа. Дальнейшие исследования в этом направлении могут способствовать формированию более универсальной теории конфликта, отражающей многообразие мировых литератур.