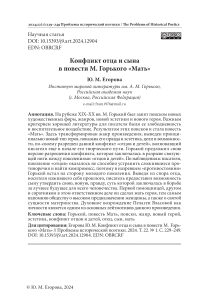Конфликт отца и сына в повести М. Горького «Мать»
Автор: Егорова Ю.М.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
На рубеже XIX-XX вв. М. Горький был занят поиском новых художественных форм, жанров, новой эстетики и нового героя. Важным критерием хорошей литературы для писателя были ее злободневность и воспитательное воздействие. Результатом этих поисков и стала повесть «Мать». Здесь трансформирован жанр произведения, выведен принципиально новый тип героя, показана его правда и эстетика, цели и возможности, по-своему разрешен давний конфликт «отцов и детей», волновавший писателя еще в начале его творческого пути. Горький предложил свою версию разрешения конфликта, которая заключалась в разрыве связующей нити между поколениями «отцов и детей». По наблюдениям писателя, поколение «отцов» оказалось не способно устранить сложившиеся противоречия и найти компромисс, поэтому в назревшем «противостоянии» Горький встал на сторону молодого поколения. Выведя из спора отца, носителя изжившего себя прошлого, писатель предоставил возможность сыну утвердить свою, новую, правду, суть которой заключалась в борьбе за лучшее будущее для всего человечества. Первой помощницей, другом и соратником в этом ответственном деле он сделал мать героя, тем самым напомнив обществу о высоком предназначении женщины, а также о святой сущности материнства. Духовное возрождение Пелагеи Власовой как личности является одним из основных лейтмотивов данного произведения.
Горький, повесть мать, поиски, жанр, новый герой, эстетика, конфликт отцов и детей, отец, сын, мать
Короткий адрес: https://sciup.org/147243490
IDR: 147243490 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.12904
Текст научной статьи Конфликт отца и сына в повести М. Горького «Мать»
В 1961 г. французский писатель Андре Стиль в статье «Горький и авангард» высказал мысль, которая будет актуальной для исследователей творчества М. Горького еще долгие годы: «Если о каких-то книгах говорилось и писалось очень много, это еще не значит, что о них уже сказано все. Перечитывая их в свете требований и задач нынешнего дня, каждый раз обнаруживаешь в них нечто новое. Они неисчерпаемы. Пример тому "Мать" Горького» [Стиль: 185].
Со времени выхода книги в свет в 1907 г. прошло более ста лет. Особенно активно это произведение изучалось в советские годы. Ему было посвящено огромное количество работ и исследований в нашей стране и за рубежом. Они внесли свой вклад как в горьковедение в целом, так и в изучение этого произведения в частности. В фундаментальных трудах Н. П. Белкиной, В. В. Ермилова, С. В. Касторского, И. Н. Кубикова второй половины 30-х — 50-е гг., и позже в 60–80-е гг. XX в. — у В. И. Баранова и Н. Д. Барановой, Б. И. Бурсова, Б. А. Бялика, Б. В. Михайловского и Е. Б. Тагера, И. В. Никитиной, С. И. Сухих1 и др. — поднимались вопросы истории создания текстов и их художественного своеобразия, рассматривались гипотезы о прототипах главных героев, анализировалось влияние приемов соцреализма на развитие сюжета и пр. Большое количество исследовательских работ, раскрывающих различные аспекты повести «Мать», можно объяснить присутствием в произведении значительного числа намеченных автором лейтмотивов, каждый из которых требует детального изучения. Для разрешения одного из них — конфликта «отцов и детей» — Горький предложил свою версию. Ее суть заключалась в разрыве связующей нити между поколениями «отцов и детей», Михаилом и Павлом Власовыми, и заменой ее более высокими и значимыми отношениями «матери и сына». Настоящая работа впервые подробно и аргументированно раскрывает ход авторской мысли в его нова торском подхо де к разрешению данного конфликта.
Рубеж веков в России был ознаменован предвестием грядущего обновления. Переломные для страны годы постепенно формировали новое восприятие исторической действительности. В обществе четко осознавался резко ускорившийся поток судьбоносных событий и нарастали сомнения в устойчивости существовавшего миропорядка. Последствия этих явлений рубежа веков указаны в статье «Русская литература "серебряного века" как сложная целостность» Вс. А. Келдыша: «общественный подъем начала 1900-х годов, завершившийся событиями Первой русской революции 1905–1907 годов», «глубоко всколыхнул» страну [Келдыш: 13]. Одну из причин, приведших к кризису, Горький усматривал в назревшем конфликте поколений, который требовал немедленного разрешения. Писатель осознавал, что жить «заветами отцов» более не представлялось возможным. Будучи не только свидетелем, но и активным участником создаваемой в России новой истории, он остро чувствовал необходимость в серьезных переменах. Противоречия между старшим и молодым поколениями возникали все чаще и проходили все более ожесточенно. Это подтолкнуло Горького к поиску путей примирения. Одновременно он занялся и поиском иных художественных форм, жанров, новой эстетики и нового героя. Как отмечал В. Воровский, «деятельность М. Горького — и как художника и как публициста — представляет одно сплошное искание правды — того нравственного начала, которое осмыслило бы человеческое общежитие и сделало бы жизнь людей разумной и счастливой» [Воровский: 175]. О духовных и эстетических поисках периода рубежа веков в жизни и творчестве писателя упоминали в своих трудах Л. А. Колобаева [Колобаева], Л. А. Спиридонова [Спиридонова, 2021, 2022] и др. Результаты незамедлительно нашли отражение в его творчестве, а именно — в повести «Мать», в которой автор попытался показать трансформацию внутреннего духовного и идейного мира героини, проследить становление ее как личности.
Конфликт поколений «отцов и детей» как столкновение двух мировоззрений и своего рода моральный диспут волновал Горького еще в начале его творческого пути. Эта тема, помимо прочих, нашла отражение в рассказе «На плотах» (1895), романе «Фома Гордеев» (1899) и других произведениях автора. В повести «Мать» писатель впервые представил свой вариант разрешения данного спора. На протяжении довольно долгого времени Горький задавался вопросами: как устранить это противоречие? кто виноват в его появлении? Причины возникновения конфликта, из-за которого поколения детей сталкивались в идейных спорах с отцами, низвергая их ценности и кумиров, он сформулировал, дав им свою оценку, несколькими годами позднее в циклах статей «Издалека» (1911) и «О современности» (1912). Так, в статье «О современности» Горький писал:
«Вражда отцов и детей в тех формах, с тою силой, как она наблюдается в нашем быту — явление, возможное только там, где не выработаны общекультурные и классовые традиции, <где отсутствует главнейшая основа их — высокая оценка человеческой личности и нет чувства уважения к ней>, где нет строгой преемственности в социальной работе, где каждое поколение стремится начать жизнь свою "по-новому", не оглядываясь назад, не разбираясь в наследстве "отцов", и где отцы, слишком высоко оценивая свой социальный труд, <…> относятся ко всякой попытке критики его со стороны детей иронически и отрицательно» 2 .
Будучи по духу бунтарем («…я в мир пришел, чтобы не со-глашаться»3), Горький в конфликте «отцов и детей» принял сторону молодого поколения, в правду которого он поверил и за которым видел будущее. Трагедия, произошедшая в его семье во время работы над повестью, лишь укрепила позицию автора. Смерть маленькой дочери оказала сильное влияние на писателя, в результате чего он создал в повести новую образную систему, навеянную размышлениями о детях и будущем, которое им предстояло построить, о духовном возрождении человека и судьбе России, о роли женщины-матери в этом процессе. Так, в письме от 19 августа (1 сентября) 1906 г. к жене Е. П. Пешковой он писал:
«Я прошу тебя — следи за сыном. Прошу не только как отец, но — как человек. В повести, которую я теперь пишу, — "Мать" — героиня ее, вдова и мать рабочего-революционера — я имел в виду мать Заломова, — говорит:
"— В мире идут дети… идут дети к новому солнцу, идут дети к новой жизни… Дети наши, обрекшие себя на страдание за все люди , идут в мире — не оставляйте их, не бросайте кровь свою без заботы!"
Впоследствии, когда ее будут судить за ее деятельность, она скажет речь — в которой обрисует весь мировой процесс, как шествие детей к правде. Детей, ты это пойми! В этом — страшное усиление мировой трагедии. Мне трудно пояснить тебе эту большую мысль в письме, она слишком сложна…» 4 .
Этот фрагмент письма объясняет, почему Горький встал на сторону молодого поколения и принял решение убрать, практически в самом начале повести, образ Михаила Власова, отца Павла — носителя старых, изживших себя традиций. Автор не видел за ним будущего: Власов-старший был воплощением безрадостной жизни рабочей слободки с ее дикими порядками и обычаями. Чтобы усилить связь и сходство этого персонажа со средой, выходцем из которой тот являлся, Горький прибегнул к приему зооморфизма. Согласно первоначальному замыслу писателя, слесарь Михаил Власов обладал звериной внешностью и повадками. По мнению О. Н. Кондратьевой, зооморфные образы использовались различными авторами с древних времен в качестве художественного приема «для характеристики особенностей внешнего облика человека, его характера, поведения в обществе, т. е. актуализации вполне конкретных, наблюдаемых особенностей существования человека. В то же время существует тенденция использования зооморфных образов и для репрезентации внутреннего мира человека, в частности его центрального компонента — души» [Кондратьева: 186]. Особенно очевидным сходство было в первых двух редакциях повести, в последней Горький сделал его менее заметным. В ранней редакции (1906), считающейся утерянной в Америке, Власов-старший был представлен следующим об разом:
«…слесарь Михаил Власов [по прозвищу Волк], человек угрюмый, [чернобородый] [неуклю<жий>] [и весь] с маленькими [подозрительно] глазами, которые смотрели на всё из-под густых бровей подозрительно, с недоверчивой и острой усмешкой. [Весь обросший густыми черными] <…> Лицо его [обросшее густой], заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волосатые толстые руки, покрытые шерстью, внушали всем страх. И особенно боялись его глаз [< 1 нрзб .> они смотрели] они сверлили лица людей, точно стальные буравчики, [и была в них беспощадная] и каждый, кто встречался с их взглядом, чувствовал перед собой зверя, дикую силу, [неспособную к жалости, их] не доступную страху, готовую [бить] драться без пощады. <…> и сквозь густые волосы на его лице страшно сверкали звериные, крупные зубы» 5 .
Обращает на себя внимание прозвище Михаила Власова — Волк. В процессе работы над повестью Горький откажется от него, и в последующих редакциях оно больше не появится. Чтобы понять, почему Горький сравнил Михаила Власова именно с волком, обратимся к Библейскому словарю Э. Нюстрема: «Волк — евр . зеев. За свою хищность и дикий вой волк считался особенно отвратительным животным»6. В тексте Библии волкам уподоблялись лжепророки (Мф. 7:15), а также неправедные князья и судьи (Иез. 22:27; Соф. 3:3). Автор словаря отмечает, что и «враги Евангелия уподобляются волкам» (Мф. 10:16; Деян. 20:29). Иными словами, Горький неслучайно использовал такое сравнение: ему важно было показать дикость и необузданность нрава Власова-старшего, убедить читателя в том, что его темная, погрязшая в ненависти и пороках душа не способна на созидание, на принятие новой правды и веры, поисками которых занят его сын. Он — антагонист Павла, посвятившего себя служению всему человечеству.
В тексте второй редакции, выпущенной издательством И. П. Ладыжникова в Берлине в 1907 г., Горький немного смягчил описание Власова-старшего, однако и оно оставляло тя желое, мрачно е впечатление:
«Так жил и [слесарь Михаил Власов, человек угрюмый] {Михаил Власов, слесарь, волосатый, угрюмый}, с маленькими глазами; [которые] {они} смотрели из-под густых бровей подозрительно, с [недоверчивой и] нехорошей усмешкой. <…> Лицо его, заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волосатые руки[, густо покрытые шерстью] внушали всем страх. Особенно боялись его глаз, — маленькие{,} [и] острые, они сверлили людей, точно стальные буравчики, и каждый, кто встречался с их взглядом, чувствовал перед собой [зверя,] дикую силу, недоступную страху, готовую бить беспощадно. <…> …глаза его блестели острой, как шило, усмешкой» 7 .
Из окончательного варианта, вошедшего в собрание сочинений, выпущенное в Берлине издательством “Kniga” в 1923 г., Горький убрал из описания Власова-старшего прямые анималистические сравнения, тем не менее косвенное сходство все же осталось. Так, песни, исполняемые этим персонажем в минуты душевного смятения, скорее напоминали протяжный звериный вой, нежели благозвучную мелодию:
«После ужина он (Михаил Власов. — Ю. Е. ) <…> выл песню, широко открывая рот <…>. Заунывные, некрасивые звуки путались в его усах <…>. Слова песни были какие-то непонятные, растянутые, мелодия напоминала о зимнем вое волков. Пел он до поры, пока в бутылке была водка…» ( Горький ; т. 8: 11).
Единственным другом и спутником Михаила Власова стала безымянная собака. Писатель сознательно указал на их внешнее сходство:
«Была у него собака, такая же большая и мохнатая, как сам он» ( Горький ; т. 8: 11).
Между хозяином и его питомцем сложились свои, понятные только им двоим отношения. Они всюду появлялись вместе, став неотъемлемой частью друг друга:
«Она (собака. — Ю. Е .) каждый день провожала его на фабрику и каждый вечер ждала у ворот. <…> собака весь день ходила за ним, опустив большой, пышный хвост. Возвращаясь домой пьяный, он садился ужинать и кормил собаку из своей чашки. Он ее не бил, не ругал, но и не ласкал никогда. <…> Пел он до поры, пока в бутылке была водка, а потом валился боком на лавку или опускал голову на стол и так спал до гудка. Собака лежала рядом с ним» ( Горький ; т. 8: 11).
Создается впечатление, что пес был для Власова дороже и ближе домочадцев. Не раз поднимавший руку на сына и жену, он никогда не бил собаку. Угрюмость, буйный нрав и тяжелая жизнь хозяина отражались на настроении питомца. Горький подчеркнул эту мысль всего одной фразой:
«…собака <…> ходила за ним, опустив большой, пышный хвост » ( Горький ; т. 8: 11; выделено мной. — Ю. Е. ).
В отличие от большинства представителей мужского населения слободки, которые вели разгульный образ жизни, Михаил Власов оставался преданным своей жене. Лишь однажды он заявил ей, что собирается завести любовницу, но обещание так и не исполнил:
«— Я любовницу заведу… Любовницы он не завел…» ( Горький ; т. 8: 11).
Однако преданность Власова Пелагее была весьма специфична и больше напоминала привычку. Привычка приходить туда, где кормят и ухаживают, да и податься больше некуда; но вот любви и сердечной привязанности к супруге у Власова никогда не было, как не было жалости, сострадания и благодарности. В одной из бесед с друзьями сына Ниловна поведала о жизни с мужем:
«Все заботы мои, все мысли были об одном — чтобы накормить зверя своего вкусно, сытно, вовремя угодить ему, чтобы он не угрюмился, не пугал бы побоями, пожалел бы хоть раз» ( Горький ; т. 8: 86–87).
Власов отличался немногословностью, «сволочь» было его любимым словом: «Им он называл начальство фабрики и полицию, с ним он обращался к жене» ( Горький ; т. 8: 10), но не к собаке.
Пес стал самым преданным и близким Михаилу Власову существом. Горький объединил их в пару, чтобы подчеркнуть духовное одиночество этого персонажа. В отличие от положительных героев повести, имевших друзей и соратников, и отрицательных (Исай, офицеры, судьи и др.), лишенных привилегии иметь друзей, Власов-старший занял промежуточное положение — безымянная собака оказалась его единственным компаньоном, а в некоторых случаях и собеседником.
Стоит отметить, что Горький не раз прибегал к приему зооморфизма. Особенно это характерно для раннего творчества писателя. Анималистические черты можно встретить в описании Игната Гордеева — отца Фомы Гордеева в одноименной повести. Горький наделил купца тремя душами, одна из которых, звериная, обыкновенно наиболее ярко проявлялась весной:
«…когда всё на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно ласковым веет на душу с ясного неба, — Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа — буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя» ( Горький ; т. 4: 185).
Обычно ничего хорошего это не сулило. Опоенный весной Игнат Гордеев на несколько недель погружался в пьянство и разврат:
«Всклокоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой…» ( Горький ; т. 4: 185).
Наконец, устав от кутежей, Игнат, подавленный и тихий, неожиданно возвращался домой. Молча слушая упреки жены, он становился «смирным и тупым, как овца» ( Горький ; т. 4: 185).
В отличие от Игната Гордеева, у которого лишь одна из трех душ была звериной, Михаил Власов являлся обладателем только одной — дикой и необузданной. Он отличался буйным и злобным нравом, особенно после обильных возлияний. И хотя этим грешило практически все мужское население слободки, каждое посещение кабака Михаилом Власовым заканчивалось дракой, во время которой он вымещал всю скопившуюся злобу на боках своих компаньонов и случайных зевак. Именно поэтому жители слободки не любили его и боялись, хотя работником он был хорошим. Неудивительно, что и после смерти Власова-старшего никто из провожавших взглядом траурную процессию не нашел для него доброго слова:
«— Чай, Палагея-то рада-радешенька, что помер он… Некоторые поправляли:
— Не помер, а — издох…» ( Горький ; т. 8: 12).
В конце второй главы Горький вывел этого персонажа за рамки повествования. Вслед за ним сгинула и собака:
«Когда гроб зарыли, — люди ушли, а собака осталась и, сидя на свежей земле, долго молча нюхала могилу. Через несколько дней кто-то убил ее…» ( Горький ; т. 8: 12).
Полной противоположностью отцу стал образ его сына Павла. Горький использовал прием контраста в изображении этих персонажей, чтобы показать резкое отличие между ними. О противопоставлении светлого и темного начал в изображении отца и сына Власовых писал Е. Б. Тагер: «Михаил Власов еще весь погружен в эту тьму, плотную и тяжелую. Тьма обступает домик Власовых…» [Тагер: 108]. Иными словами, Власов-старший, впрочем, как и большинство рабочих фабрики, являлся порождением тьмы, невежества. Как отмечает Е. И. Маркова, «соответственны и внешность, и поведение людей, вышедших из этих "недр"» [Маркова: 624]. Cравнение Павла с белой березой резко контрастирует с мрачным и удручающим описанием жизни и быта слобожан и его отца и делает акцент на чистоте и непорочности этого персонажа:
«— Чего? — спросил отец, надвигаясь на высокую, тонкую фигуру сына, как тень на березу» ( Горький ; т. 8: 11).
Вызывает интерес еще одна немаловажная деталь. В тексте первой редакции Горький указал на наличие у Власова-старшего курительной трубки:
«Потом, держа голову вызывающе прямо, [с короткой и толстой трубкой в зубах], он шел следом за ними и [порою] вызы-вал…» 8 .
Из текстов более поздних редакций эта фраза исчезнет. Второй и последний раз трубка появится чуть позже, после смерти Михаила Власова. Сын потребует ее по возвращении с хмельной вечеринки:
«— И — курить буду! Дай мне отцову трубку… — тяжело двигая непослушным языком, бормотал Павел» ( Горький ; т. 8: 14).
Это единственный сохранившийся в повести эпизод, в котором осталось упоминание о трубке. Горький сознательно убрал этот предмет, чтобы он не перешел к Власову-младшему, поскольку писателю важно было показать, что связь между отцом и сыном порвана. Передающиеся по наследству вещи демонстрируют непрерывность традиций, связующих поколения «отцов и детей». В контексте повести курительная трубка символизировала собой тяжелую, распутную и бессмысленную жизнь ее обладателя. Переход по наследству к Павлу и дальнейшее использование этого предмета означали бы, что сына могла ожидать такая же судьба, как и его отца. Горькому необходимо было прервать эту порочную традицию, поскольку для Павла он уготовил иную миссию: отречение от старого миропорядка, отказ от собственного счастья во имя высокого служения человечеству. Выведение из конфликта «отцов и детей» Власова-старшего еще не означало окончательного разрешения спора между поколениями. Горький предложил свой вариант решения этого вопроса: по авторскому замыслу, вакантное место отца заняла мать. Ее любовь к сыну, деятельная поддержка его дела и активное участие в пропаганде его правды устранили конфликт и вывели отношения между поколениями на качественно иной уровень.
По мнению Н. Н. Иванова, главные герои — Павел Власов и Пелагея Ниловна — стали проецироваться на образы Богородицы и Сына9: мать, как считает Иванов, «страждет новых, любовных человеческих отношений, восторгается красотой и обширностью земных богатств. Ее внутренние порывы в финальных главах произведения едва ли не напрямую обращены к Солнцу. Сын её, Павел, словно рожден для преображения мира <…> как в том священном сюжете о Матери, Сын Которой явился ради такой же великой и жертвенной цели» [Иванов: 22].
Материнская тема и тема духовного возрождения женщины оказались существенными для произведения. Евангельская сюжетная линия трансформировалась: Сына на жертвенное служение людям посылает не Бог-отец, а Мать — место Отца-Бога, по мнению И. А. Есаулова, вакантно, оно достраивается в историческом контексте.
Говоря о «вакантности» места отца, исследователь имеет в виду сиротство по отцовской линии не только Павла Власова, но и его соратников. В большинстве случаев речь идет не столько о физическом сиротстве, сколько о духовном (см. подробнее: [Есаулов: 33 и др.]). В тексте повести нет ни одного эпизода, в котором были бы представлены теплые и доверительные отношения между отцом и сыном. Когда Павлу исполнилось четырнадцать лет, между ним и отцом произошел конфликт. В припадке гнева отец решил оттаскать сына за волосы — Павел в ответ схватил молоток и замахнулся им на родителя: «Будет! <…> Больше я не дамся…». Вскоре после этого случая Власов-старший отказал в содержании жене и сыну: «Денег с меня больше не спрашивай, тебя Пашка прокормит…» ( Горький ; т. 8: 11) и с того времени (почти два года вплоть до своей кончины) перестал замечать сына и прекратил всякое общение с ним.
Аналогичная ситуация духовного сиротства по линии отца сложилась практически у всех соратников Павла, за исключением Андрея Находки. Поскольку тот никогда не видел и не знал своего отца, испытывать какие-либо чувства по отношению к нему было бы довольно сложно. В случае с ним можно говорить о сиротстве фактическом. Если проследить историю взаимоотношений с отцами остальных соратников Павла Власова, складывается следующая картина:
Наташа родом из богатой московской семьи. Ее отец успешно занимался торговлей металлами, владел несколькими домами, с детства девушка не знала ни в чем отказа. Однако в беседе с Ниловной героиня призналась: «Отец у меня такой грубый, брат тоже. И — пьяница» ( Горький ; т. 8: 33). Узнав, что вопреки его воле дочь увлеклась идеями социализма, отец выгнал ее из дома.
История Сашеньки, родившейся в семье помещика, в чем-то схожа с жизненной ситуацией Наташи. Испытывая жгучее чувство стыда за бесчестные деяния родителя, дочь земского начальника, обворовывавшего крестьян, отказалась от него. «У меня нет отца» ( Горький ; т. 8: 326), — упрямо и настойчиво отвечала Саша на расспросы Сизова.
У Николая Весовщикова отец — вор и пьяница, что стало причиной заключения его в тюрьму. Каждый раз проходя мимо окон каземата, Николай «увидит его <…> и ругает» ( Горький ; т. 8: 89). «Поганенький такой старичок», — так характеризует его Андрей Онисимович. В слободке знали, что жена Весов-щикова-старшего пропала без вести, вероятно, не выдержав тяжелого испытания совместной жизни с ним. Стыдился его и сын.
У Николая Ивановича и его сестры Софьи отец был управляющим заводом в Вятке. Семья не нуждалась, однако брат и сестра приняли совместное решение посвятить себя служению людям и идеям социализма. Николай Иванович стал учителем, а Софья, овдовев, продолжила дело мужа и занималась партийными делами уже вместе с братом.
Тема духовного сиротства по линии отца прослеживается в повести довольно четко, и это не случайно. Горький хотел показать духовную и нравственную бесперспективность поколения отцов — представителей изжившего себя прошлого. Но свято место пусто не бывает — по замыслу Горького, место отца заняла мать, благодаря чему одной из центральных и заметных в повести стала тема материнства и роли матери в жизни каждого человека. Образ матери оказался одним из ключевых в произведении, именно поэтому в ходе неоднократных переработок повести он подвергся наиболее существенным изменениям. По мнению С. В. Касторского, «перерабатывая повесть, Горький всегда особое внимание уделял образу Ниловны» [Касторский, 1954: 75]. Исследователь отмечал, что «в первоначальном тексте Ниловна была старухой, бабулей, как постоянно называл ее Егор Иванович <…> В последней редакции Ниловна стала мамашей» [Касторский, 1954: 77]. В процессе работы над образом Пелагеи Власовой Горький значительно умерил ее религиозность, устранил целый ряд рассуждений на религиозные темы [Касторский, 1954: 79]. Стало заметно, как по мере развития сюжета ослабевает ее вера в Бога, а к концу книги и вовсе появляется сомнение в Его существовании. В проработке образа Ниловны в полной мере проявился талант Горького-художника: «…множество мелких исправлений, внесенных особенно в последней редакции, говорит о пристальном внимании Горького к центральному образу повести и тщательности его художественной обработки» [Касторский, 1954: 80]. Это самый динамично развивающийся персонаж произведения.
В образе Власовой Горькому важно было показать совершенно новый тип женщины-матери — деятельной, любящей, матери-соратника. Возможно, он получился несколько идеализированным, на что незамедлительно обратила внимание критика тех лет. Сразу после выхода первой редакции повести в свет в конце марта 1907 г. критик В. Львов-Рогачевский писал Горькому:
«Обрадовался я Вашей книге, "как матери". В ней есть что-то умиленное и умиляющее; так можно писать о матери только на чужбине и только, не изведавши материнской ласки в детстве.
Теперь заговорят не о тургеневских "Отцах и детях", а о горьковских "Матерях и детях" и о величественном слиянии материнского и человеческого. Вы первый выдвинули фигуру новой матери, "невинно убиенной" и воскресшей, и поставили ее на должную высоту. В пролетарской среде такие матери бывают, могут быть, должны быть. Ваша "Мать" — правда»10.
Весь цикл женских образов в творчестве М. Горького, как отмечал В. В. Ермилов, тесно связан именно с образом Ниловны: «В образе могучей и ласковой с и л ы м ат ер и н ст в а , пронизывающей весь роман, <…> Горький дает прообраз той подлинной человечности, которая завоюет весь мир. Материнство будет выведено из жалких, тесных клетушек, оно станет силой, служащей всему человечеству» [Ермилов: 173–174].
Схожее мнение выразила и Н. П. Белкина. Но, в отличие от Ермилова, она была более сдержанна в своей оценке. По ее мнению, «Ниловна, как и Павел, не явилась в произведении неизвестно откуда. Образ Пелагеи Ниловны Власовой существовал, в отдельных деталях, в элементах, в целом ряде других женских образов из произведений, предшествующих "Матери". Ниловна — в этом смысле — новая ступень в создании образа женщины и стоит в таком же отношении к предшествующему творчеству Горького, как и Павел Власов» [Белкина: 98]. Как считала исследовательница, в образе матери нашли отражение лишь женские образы из предшествующих повести «Мать» произведений.
Таким образом, в повести «Мать» Горький предпринял попытку по-своему разрешить конфликт «отцов и детей». По его наблюдениям, поколение «отцов» оказалось не способно устранить сложившиеся противоречия и найти компромисс. Выведя из спора Отца как носителя изживших себя традиций прошлого, писатель предоставил возможность Сыну утвердить свою новую правду, суть которой заключалась в борьбе за лучшее будущее для всего человечества. Первой помощницей Сына, другом и соратником в этом деле стала Мать. Памятуя о высоком предназначении Женщины, ее миссии и роли в жизни каждого человека и в мире в целом, писатель пришел к выводу, что разрешить конфликт поколений возможно только взаимной, активной, созидательной любовью, терпением, самопожертвованием во имя близкого человека, взаимным же ланием понят ь и принять друг друга.
Список литературы Конфликт отца и сына в повести М. Горького «Мать»
- Баранова Н. Д., Баранов В. И. Повесть «Мать» и творчество Горького 20-х гг. // Вопросы горьковедения: межвуз. сб. Горький: Изд-во ГГУ, 1974. Вып. 1: «Мать» М. Горького. С. 24–57.
- Белкина Н. П. В творческой лаборатории М. Горького. М.: Сов. писатель, 1940. 152 с.
- Бурсов Б. И. Роман М. Горького «Мать» и вопросы социалистического реализма. М.: Гослитиздат, 1955. 225 с.
- Бурсов Б. И. Роман М. Горького «Мать». М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1962. 120 с.
- Бялик Б. А. Так начиналась повесть «Мать» // Литературная газета. 1970. № 26 (4260). 24 июня. С. 6.
- Бялик Б. А. Героическая поэма о рабочем классе: к 70-летию романа М. Горького «Мать» // Литературная газета. 1976. № 29 (4575). 21 июля. С. 2.
- Воровский В. В. Максим Горький // Воровский В. В. Литературная критика. Фельетоны. М.: Юрайт, 2020. С. 175–190 [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/viewer/literaturnaya-kritika-feletony-454550#page/4 (10.11.2023). (Сер.: Антология мысли.)
- Ермилов В. В. Мечта Горького: основные идеи творчества. М.: Сов. писатель, 1936. 194 с. [Электронный ресурс]. URL: http://gorkiy.rhga.ru/upload/iblock/add/ermilov_vv_mechta_gorkogo_osnovnye_idei_tvorchestva.pdf (10.11.2023).
- Есаулов И. А. Лекция вторая: жертва и жертвенность в повести М. Горького «Мать» // Есаулов И. А. Мистика в русской литературе советского периода (Блок, Горький, Есенин, Пастернак). Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. С. 26–36 [Электронный ресурс]. URL: http://www.nkonasledie.ru/assets/docs/books/Ivan_Esaulov__Mistika_v_russkoy_literature_sovetskogo_perioda_Blok_Gorkiy_Esenin_Pasternak___Tver_Tverskoy_univers.pdf (10.11.2023).
- Иванов Н. Н. Мифотворчество русских писателей (М. Горький, А. Н. Толстой). Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1997. 145 с.
- Касторский С. В. К вопросу о положительном герое в творчестве М. Горького: по материалам повести «Мать» и незавершенной повести «Сын» // Звезда. 1938. № 3. Март. С. 190–204.
- Касторский С. В. Повесть М. Горького «Мать», ее общественно-политическое и литературное значение. Л.: Учпедгиз, 1954. 215 с.
- Келдыш Вс. А. Русская литература «серебряного века» как сложная целостность // Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов). М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. Кн. 1. С. 13–68.
- Колобаева Л. А. Горький и Ницше // Вопросы литературы. 1990. № 10. С. 162–173.
- Кондратьева О. Н. Зооморфные образы как источник осмысления концепта «душа» (диахронический аспект) // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. 2011. № 2. С. 186–191 [Электронный ресурс]. URL: https://www.yumpu.com/xx/document/read/41080956/2011-2-/4 (10.11.2023).
- Кубиков И. Н. Комментарий к роману М. Горького «Мать». М.: Мир, 1932. 68 с.
- Маркова Е. И. Креститель Руси Егорий и повесть Максима Горького «Мать» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. Вып. 7. С. 619–629 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2701 (10.11.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2005.2701. EDN: RUYMAV
- Михайловский Б. В., Тагер Е. Б. Творчество М. Горького. М.: Учпедгиз, 1951. 248 с.
- Неёлов Е. М. Христианские традиции в русской фантастической литературе XX — начала XXI века (статья 2) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. Вып. 10. С. 351–359 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1458031471.pdf (10.11.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2012.365. EDN: PIXGGB
- Никитина И. В. По следам героев М. Горького: нижегородский комментарий к произведениям писателя. Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1981. 192 с.
- Спиридонова Л. А. Что же такое «Мать» М. Горького? // Нижегородский текст русской словесности: художественное постижение национальной ментальности: коллективная монография / отв. ред. В. Т. Захарова. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского гос. пед. ун-та им. Козьмы Минина, 2021. С. 215–220. EDN: MSFUYL
- Спиридонова Л. А. М. Горький — мыслитель, художник, человек. М.: ИМЛИ РАН, 2022. 432 с. DOI: 10.22455/978-5-9208-0697-0
- Стиль А. Горький и авангард // Иностранная литература. 1961. № 6. С. 185–187.
- Сухих С. И. Широта гения, целеустремленность борца // Вопросы горьковедения: межвуз. сб. Горький: Изд-во ГГУ, 1974. Вып. 1: «Мать» М. Горького. С. 222–228.
- Тагер Е. Б. Избр. работы о литературе. М.: Сов. писатель, 1988. 506 с.