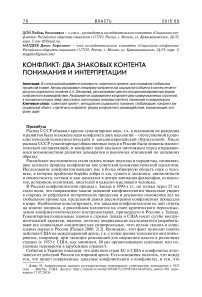Конфликт: два знаковых контента понимания и интерпретации
Автор: Цой Любовь Николаевна, Магдеев Денис Хафизович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 9, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается значимость «советского проекта» для понимания глобальных процессов в мире. Авторы раскрывают специфику конфликта как социального объекта в контексте методологии социального познания А.А. Зиновьева; рассматривают две институционализированные формы конфликтного взаимодействия. Раскрывается содержание в конфликте двух коммуникативных стратегий, в основании которых лежат два сложно соотносимых знаковых контента понимания и коммуникации.
"советский проект", методология социального познания, глобализация, конфликт как социальный объект, стратегии в конфликте, формы конфликтного взаимодействия, коммуникация, конфликт идей
Короткий адрес: https://sciup.org/170168116
IDR: 170168116
Текст научной статьи Конфликт: два знаковых контента понимания и интерпретации
Распад СССР обнажил кризис гуманитарных наук, т.к. в основании их рождения и развития была положена идея конфликта двух идеологий – отечественной (соци-алистической/коммунистической) и западноевропейской (буржуазной). После распада СССР гуманитарные/общественные науки в России были лишены идеологической составляющей, и конфликт идей оказался ничтожным перед открывшимися возможностями развития демократии и рыночных отношений по западному образцу.
Российские исследователи стали искать новые подходы и парадигмы, позволяющие осознать природу конфликтов вне советской/коммунистической идеологии. Исследование конфликтов выводит нас в более обширную область наук о человеке, в которых проблемы борьбы добра и зла, сущего и должного, автономности и совместности, истины и лжи находятся в центре внимания философов, психологов, историков, политиков, писателей и каждого мыслящего человека.
В Россию конфликтология пришла с Запада в 1990-х гг., но только через 25 лет стало ясно, что направление мысли западной конфликтологии тщательно уводит в сторону от рефлексии исторических процессов и реального положения дел на глобальном уровне как предельной рамки рассмотрения конфликтных процессов в мире. Необходимо констатировать, что западная конфликтология не дает ответы на многие вопросы, а российская находится на этапе критического переосмысления конфликтологического инструментария, пришедшего в Россию с Запада. Гуманитарные/социальные знания в странах Запада и США носят сугубо инструментальный характер, видимо, поэтому американские исследователи разрабатывают все социальные концепции как универсальные, чего нельзя сказать о социальных науках в России [Радаев 2000: 213]. Возможно, этот факт позволит понять действия США на международной арене, т.к. с точки зрения технологии они повторяются, например, при экспорте революций для свержения власти в различных странах (с 1953 г. США, как минимум, 80 раз организовывали успешные или неудачные перевороты в зарубежных странах 1 ).
События в Украине показали, что действия стран ЕС и США в конфликтах отличаются от действий России на мировой арене. Есть основания полагать, что между тем, что пишут современные западные конфликтологи о конфликтах, и тем, что делают страны ЕС и США, не только большая разница, но и большие эпистемологические проблемы познания. Проблемами познания социальных объектов занимался советский, а затем российский философ А.А. Зиновьев. После его многочисленных работ общественному сознанию России и всему миру стала понятна историческая значимость «советского проекта», ценность Российского государства в мире, а также опасность для России исчезнуть с лица земли.
Методология социального познания А.А. Зиновьева опирается на вполне определенные онтологические предпосылки, касающиеся природы объектов, с которыми имеет дело социальное познание. Зиновьев называет их социальными объектами – как объединения людей, так и людей как членов таких объединений. Содержание социальных объектов во многом зависит от процесса и результата публичной коммуникации между всеми субъектами взаимодействия и многочисленными наблюдателями. «О социальных объектах думают почти все нормальные здоровые люди. Причем даже самая примитивная мысль человека о каком-то социальном объекте есть либо его собственное открытие, либо заимствована у других людей, сделавших это открытие. Та, что всякий человек – в какой-то мере исследователь социальных объектов. Говоря о социальных исследованиях, я буду иметь в виду всю сферу думания о социальных объектах, а не только профессиональные исследования» [Зиновьев 2011: 162]. Конфликт как эмпирический объект относится к социальному объекту, феноменально наблюдаемому, данному в опыте; его «строят»/кон-струируют объединения людей и люди как члены таких объединений. Но что-то знать о социальных объектах и научно понимать их – не одно и то же. «Научный подход к социальным объектам составляет лишь ничтожную долю в колоссальной продукции сферы профессиональных социальных исследований» [Зиновьев 2011: 165]. Социальные объекты, как объекты эмпирические, возникают, исчезают, претерпевают трансформации.
Социальные объекты, изучаемые логикой, являются результатом деятельности человека в том смысле, что они не даны в готовом виде ни в природе, ни в языке – люди создают их. Так, например, процесс глобализации происходит естественно, а создание сверхобщества конструируется западными политтехнологами и политиками, создается искусственно. А.А. Зиновьев содержательно раскрыл процесс глобализации и выделил в ней две составляющие.
-
1. Объективный процесс расширения и углубления связей между государствами, странами, народами, различными сферами жизни общества. Устанавливается мировой порядок, когда в каждой точке, в каждом регионе планеты отражаются общемировые процессы. Сами объективные законы организации больших масс людей детерминируют движение стран, народов навстречу друг другу. В этом смысле глобализация – закономерное явление, противиться ей бессмысленно.
-
2. Инструмент экспансии Запада, понимаемого как определенная система устройства общества (западнизм), на весь мир. Глобализация выступает как мировая война нового типа, как экспансия политическая, экономическая, социальная, культурная, обеспечивающая Западу господствующие позиции в мире.
Формирующееся в ходе глобализации сверхобщество будет представлять собой не горизонтальную сетевую структуру, о которой так любят писать и говорить, а вертикаль с отношениями господства и подчинения, лидерства, управляемых и управляющих. Вполне естественно, что равенство, справедливость, благоденствие для всех стран и народов глобализация с собой не несет. События мирового развития и факты подтверждают этот логически обоснованный тезис. Глобализация протекает как управляемый процесс, обеспечивающий сохранение доминирования – политического, экономического, социального – для США и стран ЕС, в ее рамках рождаются, формируются новые центры силы, идет жестокая борьба за будущее. «Проблема будущего, интересующего нас, есть не просто проблема физического хода времени. Это проблема социального статуса будущего, отношения к нему людей, их поведения в социальном пространстве. И в этом смысле будущее человечества не валяется, как попало. Оно уже прибрано, в основном захвачено, поделено, упорядочено. Оно уже приготовлено для определенного способа использования» [Зиновьев 2011: 512]. Ключевым в становлении того или иного типа буду- щего является фактор понимания, т.к. чем быстрее развиваются технологии, тем очевидней становится, что будущее, за которое идет ожесточенная борьба и войны, рассчитать нельзя.
Исследование конфликтов в мире и внутри конкретного общества/государства невозможно в принципе без понимания того, в каком мире мы живем и каковы перспективы сохранения российской государственности и русской культуры в процессе глобализации. Это обязывает исследователей обращать внимание на процессы исторической реконструкции конфликта идей, определявших становление и развитие России как государства. Так, «советский проект», при всех его недостатках, писал А.А. Зиновьев, был вершиной российской истории; это был великий социальный эксперимент, и он оказал огромное влияние на все человечество.
А.А. Зиновьев, критиковавший советскую власть, писал: «Советский коммунизм был явлением в рамках западноевропейской цивилизации, он впитал в себя все лучшие достижения последней. Он развил их дальше в сфере социальных прав человека, гуманизма, образования, просвещения, культуры, нравственности, устремленности в будущее, ориентации на духовные ценности и т.д. Он выступил главным защитником достижений западноевропейской цивилизации от покушений на них со стороны фашизма и национал-социализма. Он долгое время был силой, сдерживавшей наступление американизма на Западную Европу. Последняя оказалась фактически беззащитной от американской агрессии после краха советского коммунизма» [Зиновьев 2003].
После распада СССР США и страны ЕС объявили себя победителями, а Россию – проигравшей стороной и стали навязывать всему миру свои правила игры. Началась открытая трансляция и экспорт в другие страны технологий захвата власти («цветные революции», «революция бульдозеров», «революции роз», «революция тюльпанов», «революция кадров») [Казаков 2015].
Ситуация военного переворота и захвата власти на Украине вынудила Россию стать полноценным геополитическим игроком. Россия и США оказались в ситуации противостояния двух миров (условно) – русского мира и англосаксонского. Это уже конфликт не двух идеологических систем, а двух онтологически разных миров. Появились новая политическая действительность и целое поле новых конфликтов, пронизанных информационной и конциентальной войнами, в которых ложь выдается за правду, правда – за ложь, интерпретации – за факты, реальные факты игнорируются, конструируются мемы, которые начинают жить самостоятельной жизнью. Понять конфликты, исследовать их как социальные объекты познания невозможно вне поиска ответа на вопрос: «Как устроен современный глобальный мир, информационно замыкающий в себе конфликтное противостояние двух систем: стран ЕС и США и России?»
В культуре каждого народа можно выделить две институционализированные формы конфликтного взаимодействия. Культурно значимым (субкультурным) способом разрешения морально-нравственных противоречий между представителями дворянского сословия в России являлась дуэль [Козер 2000]. Она, как правило, восстанавливала «честь и достоинство» – уважение и самоуважение. В этом своем качестве дуэль выполняла, несомненно, конструктивную роль в деле воспроизведения дворянина (образа дворянина) как представителя военно-служилого сословия. Дуэль также выполняла и «психогигиеническую» функцию, т.к. ставила «потенциально разрушительную агрессию под социальный контроль» и давала прямой выход враждебности, существующей между членами общества. Социально контролируемый конфликт таким образом «очищал воздух» и позволял участникам возобновить отношения. Дуэль культивировала такие сословные ценности и полезные качества, как дворянская честь, верность данному слову (присяге), мужество, владение оружием. Закат института дуэли произошел одновременно с закатом самого дворянства как такого сословия.
Дуэль как институционализированную форму «выяснения отношений» естественно сопоставить с неинституционализированной формой – дракой. В отличие от дуэли, драка, как правило, спонтанное, нерегламентированное и неуместное поведение, опасное как для участников, так и для окружающих людей. Ее резуль- таты, как правило, непредсказуемы и сами по себе ничего не означают (не символизируют). Именно для драки справедливы те психологические характеристики конфликтного поведения, которые связывают его с базовыми инстинктами агрессии и враждебности, садистскими наклонностями и жестокостью.
По своей сути драка отличается от дуэли прежде всего тем, что это «игра без правил», где каждый сам себе устанавливает правила и сам же решает, следовать им или нет. Отсюда спонтанность, ситуативность и незавершенность подобного противоборства самого по себе (это уличный конфликт, который прерывается, но никогда сам по себе не завершается, предел ему кладут, чаще всего, внешние обстоятельства).
В конце 2014 г. США приняли Акт о поддержке свободы на Украине, законодательно закрепивший конфронтационную стратегию США по отношению к России на обозримое будущее 1 . Этот правовой факт, по сути, повторяет Директиву № 66 «Экономические связи Восток – Запад и санкции, связанные с Польшей», принятую в ноябре 1982 г. Советом национальной безопасности США. Анализ действий стран ЕС и США позволяет констатировать, что эти страны в отношении других стран действуют с позиции силы, без всяких правил. До государственного переворота в Украине и бомбежек восточной части Украины действия этих стран международной общественностью публично и широко не обсуждались. Когда локальные и гибридные войны были относительно далеко от границ России, российская общественность не имела возможности получать достоверные материалы. Ситуация в Украине дала богатейший материал о технологиях государственных переворотов, распространения лжи, формирования вражды и ненависти на территории исторически дружественных государств.
Отсутствие универсальных правил привело к тому, что противоречия на международной арене, а также в сфере понимания и коммуникации стали решаться, в конечном итоге, лишь с помощью силы, грубо говоря, с помощью драки (бой без правил), когда сильнейшая сторона подавляет, а все остальные становятся жертвами, не способными выразить, артикулировать то насилие, которому они подвергаются. Если мы не хотим такого будущего для наших детей и внуков, необходимо формировать такое информационное пространство, в котором люди получали бы достоверную и полную информацию о происходящем в мире.
В конфликте на любом уровне (микро-, мезо- и макроуровне) мы можем обнаружить два противоположных знаковых контента понимания и коммуникации, имеющих силу аргументации и основательности обеих позиций:
– коммуникация как инструмент победы, которая строится на защите только своего интереса, подчинение других своей воле, «продавливание» своего проекта и т.д.;
– коммуникация как инструмент поиска консенсуса (социальная коммуникация), которая строится на договоренностях, взаимных обязательствах и связях. Социальная коммуникация способствует трансформации формы и содержания, что невозможно осуществить вне интенционального процесса.
Конфликт разворачивается в двух коммуникативных сферах/пространствах.
-
1. Социокультурное пространство конфликта включает в себя 2 основные функциональные группы, которые можно рассматривать как социально-семиотические функции, без которых, собственно, конфликт развиваться не может: участники конфликта и простые наблюдатели. Именно наблюдатели формируют общественное мнение, они в большей степени выражают свое отношение к конфликту и к сторонам конфликта – «за» или «против».
-
2. Культурное пространство конфликта, которое в отношении к социокультурному пространству дает возможность ввести так называемую действительность. Оно создается профессиональными сообществами. Отношения между сопереживаниями, опытом, чувствами/эмоциями в конфликте и размышлениями над ними – это и есть то напряжение, которое формирует действительность.
В пространстве коммуникации разворачиваются разные коммуникативные стратегии: партнерская (стремление к сотрудничеству), манипулятивная (стремление к обману в своих интересах), репрессивная (принуждение и подчинение слабого в интересах сильного), псевдокоммуникация (передача информации и не получение адекватной реакции на нее), квазикоммуникация (когда стороны не только не обмениваются информацией, но и не стремятся это делать). Псевдокоммуникация и квазикоммуникация создают иллюзорность общения, на самом деле не затрагивающего механизмы восприятия сказанного [Массовая коммуникация... 2000].
Анализ конфликтов и его результат имеют принципиальное идеологическое, гносеологическое и практическое значение и требуют от каждого субъекта власти самостоятельного и ответственного принятия решений, выбора определенной стратегии и принципов вмешательства в конфликты.
Английский философ Дж.С. Милль в середине XIX в. писал: «…единственное оправдание вмешательства в свободу действий любого человека [любого субъекта, коллективного или индивидуального] – самозащита, предотвращение вреда, который может быть нанесен другим. Собственное благо человека, физическое или моральное, не может стать поводом для вмешательства, коллективного или индивидуального. Не следует заставлять его делать что-либо или терпеть что-то из-за того, что, по мнению общества, так будет умнее и справедливее. Можно увещевать, уговаривать, упрекать, но не принуждать и не угрожать. Чтобы оправдать вмешательство, нужно выяснить, причинит ли его поведение кому-нибудь вред. Человек ответственен только за ту часть своего поведения, которая касается других. В остальном – абсолютно независим над собой, своим телом и душой, личность суверенна» [Милль 1993].
На наш взгляд, Россия как мощное государство на всех уровнях жизнедеятельности должна заявить главные принципы, способствующие цивилизованному разрешению конфликтов между государствами, между обществом и личностью, между всеми субъектами жизнедеятельности:
– разрешить конфликт могут только сами участники конфликта;
– насилию сильной стороны над слабой должен противостоять весь мир – силой слова, силой права, силой имеющихся в распоряжении человечества средств защиты.
В стремлении оказать помощь конфликтующим сторонам российская власть, государство, гражданское общество должны опираться на самые лучшие идеи, знания, традиции русской культуры, на гуманные принципы общежития, которые накопила человеческая цивилизация в сохранении мира и разрешении конфликтов.
Список литературы Конфликт: два знаковых контента понимания и интерпретации
- Зиновьев А.А. 2003. Идеология партии будущего. М.: Алгоритм. 241 с
- Зиновьев А.А. 2011. Фактор понимания. М.: Агентство «Социальный проект». 517 c
- Казаков А.В. 2015. «Цветная революция» в России: миф или реальность? -Власть. № 4. С. 5-14
- Козер Л. 2000. Функции социального конфликта. М.: Идея-пресс; Дом интеллектуальной книги. 205 с
- Милль Дж. 1993. О свободе (пер. с англ. А. Фридмана). -Наука и жизнь. № 11. С. 10-15; № 12. С. 21-26
- Радаев В.В. 2000. Есть ли шанс создать российскую национальную теорию в социальных науках? -Pro et Contra. T. 5. № 3. С. 117-134