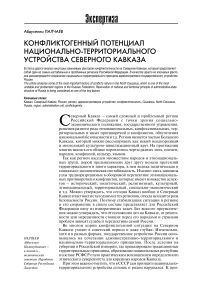Конфликтогенный потенциал национально-территориального устройства Северного Кавказа
Автор: Палчаев Абдуcелим Нажмудинович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 1, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье дается анализ некоторых важнейших факторов конфликтогенности на Северном Кавказе, который представляет собой один из самых нестабильных и проблемных регионов Российской Федерации. В качестве одного из ключевых факторов рассматривается сохранение национально-территориального принципа административно-государственного устройства России.
Кавказ, северный кавказ, Россия, регион, административное устройство, конфликтогенность
Короткий адрес: https://sciup.org/170166039
IDR: 170166039
Текст научной статьи Конфликтогенный потенциал национально-территориального устройства Северного Кавказа
С еверный Кавказ – самый сложный и проблемный регион Российской Федерации с точки зрения социальноэкономического положения, государственного управления, решения разного рода этнонациональных, конфессиональных, территориальных и иных противоречий и конфликтов, обеспечения национальной безопасности и т.д. Регион является частью Большого Кавказа, который можно рассматривать как некий неоднородный и многоликий культурно-цивилизационный круг. На протяжении многих веков в его облике переплелись черты разных эпох, племен, народов, конфессий, культур, языков.
Так как регион населен множеством народов и этнонациональ-ных групп, порой предъявляющих друг другу немало претензий территориального и иного характера, в нем велика политическая и социально-экономическая нестабильность. Именно здесь завязаны узлы трудноразрешимых в обозримой перспективе этнонациональ-ных противоречий и конфликтов, которые имеют множество аспектов – исторический, политический, религиозный, культурный, этнонациоальный, территориальный, социально-экономический и т.д. Можно утверждать, что сегодня Кавказ вообще и Северный Кавказ в частности стал одним из тех регионов, откуда исходит угроза безопасности России. Поэтому стабилизация ситуации в регионе и его сохранение в своем составе представляет для Российской Федерации одну из императивных задач. Без всякого преувеличения можно утверждать, что от положения дел на Кавказе, от решен-ности или нерешенности стоящих перед его народами и странами проблем зависят судьба и перспективы самой России.
ПАЛЧАЕВ Абдуcелим Нажмудинович – к.полит.н., политический советник Народного Собрания Республики Дагестан
Во многом корни конфликтогенной ситуации на Северном Кавказе уходят в советский период и даже глубже. Изначально, хотя и в разных формах, государственное устройство России основывалось на сочетании административно-территориального и национально-территориального принципов. После деления на губернии в Российской империи, где превалировали традиционные территориальные принципы, образование национальных республик в составе РСФСР стало практическим воплощением определенного этнического суверенитета для коренных народов Кавказа.
При этом важно отметить, что в СССР сам принцип национальнотерриториального устройства сплошь и рядом нарушался. К при- меру, тюркоязычные народы региона – кумыки, ногайцы, карачаевцы, балкарцы не получили своего территориального образования, а вошли в другие, где не могли доминировать, прежде всего по своей численности. Осетинский народ оказался разделенным между РСФСР и Грузинской ССР, лезгины и аварцы – между Азербайджаном и РСФСР и т.д. Западнокавказские народы – кабардинцы, абхазы, черкесы, адыгейцы – также оказались политически раздробленными. Нельзя не отметить, что в национальные республики были включены территории (например, в среднем течении р. Терек) с русским населением, что впоследствии трагически повлияло на судьбу этих людей во время чеченского конфликта.
Как отмечал К.С. Гаджиев, СССР представлял собой, в сущности, государство, созданное из отдельных этнополитических образований, был «неким псевдо-федеративным союзом, где, с одной стороны, этнонациональные группы были лишены фактического политического суверенитета, и с другой стороны, им была гарантирована территориальная идентичность, образовательные и культурные институты на собственных национальных языках, а также стимулирование местных кадров»1. В данной связи нельзя не признать, что при всех негативных аспектах национальная политика Советского государства способствовала дальнейшему развитию многих, особенно титульных, народов кавказских республик. В рамках так называемой политики коренизации для многих народностей, потерявших свою письменность или вообще не имевших ее, были созданы национальные алфавиты, открыты школы.
С развертыванием перестройки, а затем с распадом СССР и беспрецедентным возрождением национального самосознания народов развернулись острые споры и дискуссии о формах государственного устройства и территориально-административном устройстве России. Дополнительные нюансы в эти споры и дискуссии вносил тот факт, что в условиях дезинтеграции, охватившей громадные постсоветские пространства, с особой остротой вышла на повестку дня проблема национальных меньшинств, которые с новой силой ощу- тили на себе правовую дискриминацию, вынужденную миграцию, а местами – и принудительную депортацию.
В этих условиях был принят закон СССР «О свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-государственных образований или не имеющих их на территории СССР» от 26 апреля 1990 г. Закон был призван способствовать гармонизации национальных отношений, удовлетворению специфических интересов каждой этнонациональной группы, утверждению в сфере межнациональных отношений взаимного уважения. Но с распадом СССР все более очевидной становилась потребность в специальном законодательстве, механизме урегулирования межнациональных отношений в рамках государств СНГ, подписании международных конвенций о защите меньшинств и разделенных народов.
Однако эта и другие законодательные меры уже не могли остановить нарастающий вал национальных движений, выступавших с разными лозунгами – от предоставления им самоопределения в рамках Российской Федерации до полной самостоятельности и создания независимых национальных государств. Главная причина этого состояла в том, что в Советском Союзе, как уже отмечалось, сплошь и рядом нарушался принцип самоопределения народов. Именно этот факт являлся одной из важнейших причин возникновения на Северном Кавказе национальных движений. Они со всей остротой сформулировали и поставили вопросы сохранения и дальнейшего развития национальной самобытности, исторических традиций, развития языка и культуры и т.д.
В этих условиях при формировании новой российской государственности на федеративных принципах национальный принцип, унаследованный от СССР, получил дальнейший импульс. Так, с конца 1980-х – начала 1990-х гг. руководством СССР был взят курс на распространение этого принципа не только на союзные и автономные республики, но и на автономные округа, автономные области. Законом СССР «Об основах экономических отношений Союза СССР, союзных и автономных республик», принятым Верховным Советом СССР и подписанным Президентом СССР 10 апреля
1990 г.,1 по существу, уравнивались права в союзной субъектности автономных республик, «подтягивались» к ним и автономные округа, области. Другими словами, начался процесс суверенизации как союзных, так и автономных образований. Именно в этом русле 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В п. 4 Декларации речь идет об «обеспечении … каждому народу права на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах». В п. 9 говорится о необходимости «существенного расширения прав автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как краев и областей РСФСР… Конкретные вопросы осуществления этих прав должны определяться законодательством РСФСР о национально-государственном и административно-территориальном устройстве Федерации»2. В силу того, что в Декларации закреплены национальногосударственный и административнотерриториальный принципы государственного устройства России, четыре автономных области были преобразованы в республики: Адыгея, Горно-Алтайская, Карачаево-Черкесская, Хакасская. По иным причинам 4 июня 1992 г. была образована Ингушская республика, отделившаяся от Чечни.
Особое значение с данной точки зрения имело то, что с развертыванием в стране процессов перестройки и особенно с распадом СССР наметилась тенденция к политизации этнонациональных отношений, или, иначе говоря, этническая самоидентификация практически всех северокавказских народов приобрела более или менее ярко выраженный политический характер. Это проявилось, в частности, в требованиях этнотерриториального суверенитета и национальной государственности. На рубеже 80-х – 90-х гг. в условиях фактической дискредитации базовых основ советской национальной политики возник целый комплекс противоречий, связанных с различными аспектами политической суверенизации северокавказ- ских автономных образований. Впервые за многие годы под вопрос была поставлена сама территориально-административная целостность многонациональных и двунациональных республик. К примеру, частью представителей этнонациональных групп Дагестан перестал восприниматься как воплощение государственности всех проживающих в ней народов. По сути дела, этнополитическая система республики вышла из состояния относительного равновесия, в котором она пребывала в советские годы.
В итоге, после принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 г. в течение 1990–1991 гг. «парад суверенитетов» охватил все республики. В принятых в тот период национальными автономными образованиями документах подчеркивались: договорный характер их взаимоотношений с федерацией, приоритет суверенных прав республик по отношению к законодательству РСФСР и СССР, самостоятельное регулирование вопросов гражданства, недопустимость изменения границ без решения республиканского референдума. В принятых позднее Конституциях северокавказских республик содержался ряд норм, прямо противоречащих Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Так, хотя во многих случаях в них речь шла о суверенитете в составе России (Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия), конституционные нормы северокавказских республик прямо или косвенно допускали возможность денонсации Федеративного договора и выхода из состава России (ст. 54 п. 3 Конституции Адыгеи, ст. 70 Конституции Дагестана). То, что указанные нормы к настоящему времени потеряли значимость, не снижает их деструктивного значения в условиях возможной политической и экономической нестабильности.
При этом в каждой из национальных республик на поверхность вышло множество дремавших в советский период конфликтов, в основе которых лежат, прежде всего, этнотерриториальные противоречия. Естественно, особой напряженностью и остротой характеризуются межэтнические отношения в так называемых двунациональных республиках – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также в многонациональном Дагестане.
В начале 90-х гг. было предпринято несколько попыток провозгласить суверенитет Балкарии и преобразовать ее в самостоятельный субъект РФ или объединиться с карачаевцами в единое национальнотерриториальное образование. Последняя такая попытка была предпринята в ноябре 1996 г. путем провозглашения представителями балкарской оппозиции так называемой Балкарской республики.
Примернотакоежеположениесущество-вало в Карачаево-Черкесской Республике. Согласно Конституции республики, субъектообразующими народами в КЧР являются карачаевцы, черкесы, русские, абазины, ногайцы. В июле 1991 г. был создан оргкомитет по созданию Карачаевской республики. На казачьих съездах были провозглашены Баталпашинская республика (август 1991 г.) и Урупско-Зеленчукская республика (ноябрь 1991 г.). Съезд черкесского народа в октябре 1991 г. провозгласил Черкесскую республику, съезд абазин – Абазинскую республику. Вторая волна требований о разделе территории пришлась на конец 1994 – начало 1995 гг. Объединенный съезд черкесов, абазин и части русских предложил воссоздать Черкесскую автономную область в составе Ставропольского края. Аналогичное требование было выдвинуто в мае 1999 г.1
Периодически различные казачьи сходы и круги ставят перед федеральным центром вопрос о необходимости возвращения Наурского и Шелковского районов под юрисдикцию Ставропольского края, в который эти районы входили до 1957 г. С аналогичными требованиями время от времени выступает и казачье население «русских» районов других республик Северного Кавказа – Кизлярского и Тарумовского районов Дагестана, Моздокского района Северной Осетии. В частности, в одном из документов, переданном правительству Российской Федерации, они выдвигали требования о выделении из состава Дагестана Кизлярского района, а в северной Осетии – Моздокского района, Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, казачьих станиц по Тереку в Чечне и Кабардино-Балкарии и придании казакам, живущим на этих территориях, государственно-правового статуса субъекта РФ. В 1990-е гг. лозунг воссоединения с краем неоднократно поднимался лидерами русского и черкесского движения Карачаево-Черкесии. Как отмечал тогдашний секретарь Совета безопасности Дагестана М.М. Гусаев, «негативное влияние на и без того сложную ситуацию в регионе оказывает решение большого чрезвычайного круга Терского казачьего войска, претендующего на роль вершителя судеб народов Дагестана»2. По его словам, подобные претензии некоторых деятелей казачества могут привести к нагнетанию напряженности в регионе и непредсказуемым негативным последствиям.
В начале 90-х гг. национальные движения лезгин, кумыков, даргинцев и др. выступили за федерализацию Дагестана на этнической основе, а некоторые наиболее радикальные силы – даже за создание самостоятельных этнических государств. К настоящему времени такие проекты остались достоянием лишь весьма узких группировок, не пользующихся среди населения сколько-нибудь заметной популярностью. Тем не менее в республике, равно как во всем регионе, сохраняется множество других проблем конфликтогенного характера. К тому же пока что не прослеживаются сколько-нибудь убедительные данные, которые бы позволили бы утверждать, что сепаратистские тенденции в регионе стали достоянием прошлого.
Так, в Дагестане более или менее компактно проживают несколько десятков тысяч чеченцев-акинцев, которые также служат фактором постоянной напряженности между этой республикой и Чечней. Время от времени они выступают за восстановление ликвидированного в 1944 г. Ауховского района, куда после их депортации были переселены лакцы. После распада СССР и после объявления Чечней своей независимости, особенно с началом чеченской войны, резко усилились требования чеченцев-акинцев о возвращении им своих земель и восстановлении упраздненного Ауховского района. Попытки реализации этих требований потянули за собой целую цепочку дремавших до того времени этнонациональных и территориальных противоречий между самими чеченцами-акинцами, кумыками, аварцами и лакцами, в которых каждая из сторон имеет взаимные претензии друг к другу.
Нерешенной остается проблема ногайского народа. В результате целого ряда перекроек административных границ, вызванных сначала ликвидацией в 1944 г. Чечено-Ингушской АССР и образования Грозненской обл. с включением в ее состав всей территории Ногайской степи, а затем восстановлением ЧеченоИнгушской АССР в 1957 г., ногайский народ оказался разделенным на три части: Караногайский, Кизлярский, Крайновский районы были переданы Дагестану, Кауслянский и Ачкулакский – Ставропольскому краю, Щелковский район – Чечено-Ингушской АССР. Поэтому совершенно естественно, что на третьем курултае, состоявшемся в 1990 г., была провозглашена Ногайская республика в составе Российской Федерации. Хотя из-за противодействия руководства Дагестана, Чечни и Ставропольского края эта затея закончилась неудачей, в настоящее время в самом Дагестане ногайское движение «Бирлик» (Единство) претендует на возврат себе тех территорий Ногайской степи, которые были заселены и освоены аварцами и даргинцами.
Довольно острые проблемы Республика Дагестан получила в наследство от проводившейся в течение всего советского периода политики переселения горских народов в прибрежные равнинные районы. Эта политика привела к серьезным изменениям на этнодемографической карте республики. Часть аварцев, даргинцев и лезгин, традиционно проживавших в высокогорных районах, была переселена в равнинные районы, на территории которых в течение многих поколений компактно проживали кумыки, ногайцы и некоторые другие народы.
Эта политика привела, во-первых, к постепенному запустению и хозяйственной деградации, обезлюживанию обширных территорий в высокогорных районах, где население традиционно занималось скотоводством, и, с другой – к обострению как проблем трудоустройства, так и земельного вопроса в перенаселенных равнинных районах. В то же время равнинные районы, которые раньше были преимущественно кумыкскими и ногайскими, стали смешанными по национальному составу.
Подводя итог изложенному, можно утверждать, что одной из наиболее серьезных проблем, определяющих социально-экономическое и общественно-политическое положение в Северокавказском федеральном округе, является административнотерриториальное деление, в котором сочетается административно-территориальный и этнотерриториальный принципы. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что сложившиеся к настоящему времени границы между национальными республиками не отражают реальное положение дел в регионе, построены без должного учета основополагающих социальноэкономических, демографических, политических и иных факторов.