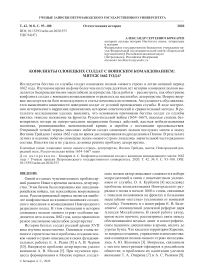Конфликты олонецких солдат с воинским командованием: мятеж 1662 года
Автор: Бочкарев Александр Сергеевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 8 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследуется бегство со службы солдат олонецких полков «нового строя» в летне-осенний период 1662 года. Изучаемое время на фоне более чем полутора десятков лет истории олонецких полков выделяется беспрецедентными масштабами дезертирства. Цель работы - рассмотреть, как обострение конфликта солдат с воинским командованием отразилось на масштабах дезертирства. Вопрос впервые исследуется на базе используемого в статье комплекса источников. Актуальность обуславливается выявлением зависимости поведения солдат от условий прохождения службы. В ходе построения исторического нарратива применялись историко-генетический и сравнительный методы. В результате исследования удалось выяснить, что основными причинами бегства солдат со службы явились тяжелое положение на фронтах Русско-польской войны (1654-1667), высокая степень безвозвратных потерь на северо-западном направлении боевых действий, жесткая мобилизационная политика, развивающийся экономический кризис и перебои с поставками продовольствия. Отправной точкой череды массовых побегов солдат олонецких полков послужил мятеж в полку Иоганна Трейдена 1 июня 1662 года во время дислоцирования подразделения в Пскове. В результате летних и осенних побегов олонецкие полки «нового строя» лишились значительной части рядового состава. Властям так и не удалось до конца решить проблему дезертирства.
Олонецкие полки "нового строя", дезертирство, иоганн трейден, мятеж, новгородский разрядный полк, русско-польская война 1654-1667 годов
Короткий адрес: https://sciup.org/147226630
IDR: 147226630 | УДК: 94(47) | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.553
Текст научной статьи Конфликты олонецких солдат с воинским командованием: мятеж 1662 года
Одной из самых чувствительных проблем армий раннего Нового времени являлось дезертирство. Этим бичом были поражены как западноевропейские войска, так и российские вооруженные силы. Рассматриваемый период является наиболее конфликтным во взаимоотношениях солдатского населения и командования Новгородского разрядного полка. В этом отношении в истории олонецких полков «нового строя» особенно выделяется лето и осень 1662 года, когда произошло резкое увеличение масштабов дезертирства1.
История беглых солдат русской армии XVII века изучена недостаточно. Основные этапы военного строительства и проблемы создания полков «нового строя» описывали в своих фундаментальных работах Е. А. Разин [8] и А. В. Чернов [10]. Напрямую проблеме дезертирства уделил внимание А. В. Малов [5]. При изучении процесса формирования в Москве первых солдат
ских полков автор описывает сложности в наборе подразделений в связи с повсеместным уклонением от службы. О. А. Курбатов [4] исследовал проблемы комплектования Новгородского разрядного полка в начале 1660-х годов, связанные с тяжелым положением на фронтах и большими масштабами «нетства» (уклонения от воинской службы). Упомянем и о монографии К. В. Бази-левича2, посвященной денежной реформе царя Алексея Михайловича. В своей работе автор, кроме всего прочего, рассматривал связь между обесцениванием медных денег и катастрофическим падением дисциплины в армии, вплоть до угрозы бунта. Что касается территории Карелии, то вопросы создания, управления и комплектования олонецких полков «нового строя» исследовались А. Ю. Жуковым [3]. Вопросам, связанным с местом иностранцев-офицеров в российском обществе, и проблемам их адаптации уделили внимание Т. А. Опарина [7] и А. С. Рыжков [9].
Кроме того, Р. Б. Мюллер [6] и Д. В. Брусницына [2] (касавшаяся наряду с А. С. Рыжковым роли и места иноземных офицеров в структуре русской армии [1]) рассматривали проблему бегства олонецких солдат сквозь призму положения крестьянства в феодальной системе России XVII века. Они также показали, как организация поселенного войска отразилась на уровне благосостояния карельских крестьян.
Недостаточно проясненным остается ряд вопросов, связанных с отношением солдат к реалиям воинской службы, в частности: каким образом они реагировали на те или иные действия командования; как обстановка на театрах боевых действий влияла на солдатское сообщество олонецких полков «нового строя». В данной статье на примере бунта в полку Иоганна (Ягана) Трейдена 1 июня 1662 года мы рассмотрим, как эскалация конфликта солдат с властями спровоцировала рост масштабов уклонения от воинской службы. В том числе будут проанализированы причины, ход и последствия мятежа и беспорядков в полку в летние и осенние месяцы 1662 года. Это также позволит понять мотивы действий беглых солдат в условиях непростой обстановки в войсках и экономического кризиса в России.
Документальной базой исследования являются материалы Российского государственного архива древних актов (РГАДА), прежде всего фонда Разрядного приказа3, где содержатся документы, касающиеся сыска беглых служилых людей Новгородского разрядного полка. Немаловажными являются и бюджетные сметы олонецких полков4, по которым можно восстановить офицерский состав подразделений. Также привлечены документы Олонецкой воеводской избы5 из научного архива Санкт-Петербургского института истории РАН, где нас интересуют дела, связанные с солдатскими преступлениями. Важным источником являются опубликованные ма-териалы6.
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОЛОНЕЦКИХ ПОЛКОВ «НОВОГО СТРОЯ»
В процессе военного строительства 30-х годов XVII века началось осуществление военных реформ, ключевым условием которых являлось усиление темпа перехода к постоянной армии. Реформы были вызваны потребностями внутренней и внешней политики, изменяющимися требованиями тактики военных действий, отчасти связанными с возросшей ролью огнестрельного оружия. Созданная форма военной организации получила название полков «нового строя». На этапе развертывания боевых единиц правительство опиралось на милиционно-территориальный метод комплектования ряда подразделений, суть которого заключалась в том, что военная служба проходила вблизи от мест жительства солдат и почти без отрыва от гражданской жизни. Главной целью введения милиционной системы являлась организация охраны границ. Впервые такая мобилизация осуществлялась в 1642–1648 годах в ряде южных уездов, в том числе Воронежском, Лебедянском и Севском, крестьяне которых были записаны в драгунскую службу [8: 212–214], [10: 138–139].
В 1647–1649 годах подобные мероприятия развернулись и в Карелии, где была проведена военная реформа. Ее сутью являлось создание из местных крестьян, которые как никто другой были заинтересованы в защите от шведов, солдатских и драгунского полков для охраны русско-шведской границы. Полки вновь созданного Олонецкого уезда комплектовались за счет способных платить налоги крестьян в возрасте от 20 до 50 лет с условием освобождения от налоговой нагрузки (в бюджетной смете за 1650 год написано, что «тех данных и оброчных денег с нынешнего 158 году с Олонца и з Заонежских погостов с крестьян, которые написаны в сал-даты для салдацкие службы, имать не велено»7) и обязательством снабжения продовольствием из собственных хозяйств [3: 206]. В 1649 году для обучения крестьян солдатскому и драгунскому строю в Заонежские погосты были направлены нанятые правительством несколько десятков иностранных военных специалистов, которые должны были проводить постоянные учения, смотры, нести службу в пограничных крепостях вместе со своими подразделениями и по мере необходимости участвовать в боях8. Со временем на офицерские должности стали назначать и русских [3: 207].
С началом Русско-польской (1654–1667), а затем Русско-шведской войны (1656–1658) первоначальная практика пограничной службы олонецких полков вдоль шведской границы была дополнена отправкой солдат и драгун в действующую армию9. При этом призыв осуществлялся только на четыре месяца в году, благодаря чему риск погибнуть был меньше, крестьянские хозяйства не оскудевали, так как служба происходила без длительного отрыва от сельскохозяйственных угодий. Однако в 1657 году власти пошли на чрезвычайные меры пополнения личного состава вооруженных сил: началась бессрочная и поголовная мобилизация, приведшая к увеличению безвозвратных потерь личного состава и запустению крестьянских хозяйств10. Это стало одной из основных причин роста напряженности в от- ношениях солдат олонецких полков и властных структур.
Ситуация обострилась к началу 1660-х годов: тяжелейшее положение на фронтах, сокрушительное поражение в битве на Кушликовых горах корпуса князя И. А. Хованского, в составе которого сражались олонецкие полки, гибель существенной части военнослужащих вызвали мощнейший кризис отношений солдат с воинским командованием [4: 98–101]. В июне 1662 года в своем челобитье солдаты просили царя вернуться к старой практике призыва (по четыре месяца в году)11, но правительство лишь частично пошло навстречу челобитникам, и в начале сентября ввело полугодовую мобилизацию12. Однако солдат это не удовлетворило, и они ответили беспрецедентным массовым дезертирством.
НА ПУТИ К СОЦИАЛЬНОМУ ВЗРЫВУ: ПОБЕГ, КАЗНЬ И МЯТЕЖ
В контексте проблемы взаимоотношений солдат с властями показательно выглядит обстановка в полку Иоганна Трейдена, офицера, выделявшегося среди других иноземцев своей стремительной военной карьерой (за 10 лет дослужился от прапорщика до полковника). В 1659 году Иоганн Трейден, до того служивший подполковником в полку Томаса Крафтера, принял командование пехотным солдатским полком, сформированным в 1649 году (одним из двух самых первых полков «нового строя» в Карелии), сменив на должности его командира Вальтера Кармихеля [3: 207]13. Базировавшиеся в 1662 году в Новгороде, военнослужащие полка, как солдаты, так и офицеры, терпели нехватку материального и денежного довольствия. Ситуация была вызвана начавшимся серьезным финансовым кризисом, связанным с неустойчивостью медных денег, их обесцениванием и скачком цен на продовольствие. По данным Московской померной избы, стоимость четверти пшеничной муки в Москве с ноября 1661 по февраль 1662 года выросла с 9 до 16 рублей, а четверти ржаной муки – с 8 до 14 рублей14. В Новгороде цена за четверть ржи доходила до 52 рублей15.
Быстрый рост цен на основные товары ударил по кошелькам военнослужащих – не только по рядовым, но даже и по офицерам. Боярин и воевода полка Новгородского разряда князь Борис Александрович Репнин докладывал царю об офицерском челобитье, в котором военные просят государя платить им жалованье не медной, а серебряной монетой, что
«ныне де им тем твоим жалованьем медными деньгами, будучи на твоей службе, от всякой дорогой цены хлеба и всякого харчу купить не на что и впредь ника- ких служилых запасов и лошадей купить нечем, что на всякие запасы и на хлеб и на харч стала цена немерная большая и они де, будучи на твоей службе, от хлебной дорогови в конец погибли»16.
Из-за бедственного материального положения, которое к тому же оказывало разлагающее влияние на личный состав, было решено передислоцировать часть корпуса Новгородского полка, а именно полк Иоганна Трейдена, в Псков17.
Судя по всему, поводом к началу беспорядков, мятежей и дальнейшему повальному дезертирству в указанном подразделении послужил инцидент, произошедший в середине мая 1662 года. На пути переброски полка в Псков с бивуака в районе Опочки был совершен вооруженный побег («отъехав де от Новагорода со ста верст на Опоку, и с Опоки збежали его полку салдаты…»). Всего в побеге, по информации полковника Трей-дена, участвовало пятьдесят человек, не считая зачинщиков18. Как свидетельствуют документы, дезертиры покинули лагерь «с ружьем и з барабаном»19. Высланная в погоню группа офицеров под командой майора встретила упорное сопротивление. В ходе кратковременной и ожесточенной перестрелки преследователи смогли арестовать организаторов побега, сержантов Мирошку Осипова и Климку Федорова, при этом остальным солдатам удалось оторваться от погони20.
Оценивая дальнейшее следствие по делу, в частности действия командира полка, важно понимать, что в отличие от европейской военноюридической практики, где полномочия полковника позволяли ему самому накладывать наказания вплоть до смертной казни любого нижнего чина полка, в России правом выносить смертный приговор обладал только царь [5: 122]. Поскольку зачинщикам побега была предназначена именно такая участь, то Трейден, добравшись 23 мая в Псков, отправил Б. А. Репнину донесение о происшествии и стал ждать санкции на его рас-следование21.
В соответствии с правовой практикой, в изучаемое время к беглым солдатам применялись различные наказания. Седьмая глава «О службе всяких ратных людей Московского государства» Соборного уложения 1649 года предписывает дезертиров, «сыскивая и чиня им жестокое наказание, бив кнутом, выслати их на государеву службу в полки к воеводам с приставы»22. Дополнительно с солдатских поручителей (которыми являлись, как правило, его родственники) взыскивался штраф в размере 20 рублей. Время от времени практиковалось тюремное заключение беглого солдата23.
В связи с увеличением количества побегов со службы правительство ужесточило наказания за дезертирство. Забегая вперед, упомянем, что во время проведения следствия по факту массовых побегов 1662 года, которое затянулось до глубокой осени, царь Алексей Михайлович писал Б. А. Репнину, чтобы тех солдат, которые «с нашея службы сбежали… выбирая из них пущих заводчиков, с стану по человеку повесить, а иным чинить жестокое наказание»24. В случае с сержантами Осиповым и Федоровым вышло распоряжение о проведении похожей акции устрашения: одного из арестованных планировалось повесить в Пскове, а другого в Заонежских погостах, откуда они и были родом, в назидание будущим солдатам25.
Казнь сержанта Мирона Осипова была назначена на послеполуденное время 1 июня. Экзекуция должна была осуществляться перед лицом всего полка. Но командование столкнулось с неожиданным сопротивлением со стороны горожан. Под предводительством протопопа Кондрата Кузмина толпа напала на офицеров полка, оттеснив их от виселицы. Мирона Осипова «у по-лача отбили [затем горожане укрыли осужденного у себя], и его, полковника, и началных людей хотели убить, и он де, под[с]кочив на лошадь, одва от них с поля уехал». В то же время солдаты никак не противодействовали посадским людям, а напротив, примкнули к восставшим: «многие солдаты ево, полковника с началными людьми, бранили, и стало де в салдатех непослушанье болшое»26. Неясно, что произошло с сержантом Мироном Осиповым и предводителем восставших псковичей, протопопом Кондратом Кузминым. Скорее всего, они понесли соответствующее наказание, но в доступных нам источниках это не отражено. В Актах Московского государства есть лишь указ царя Алексея Михайловича произвести расследование бунта. Что касается отбитого у палача горожанами сержанта, его было велено отыскать и посадить в тюрьму «и держать в тюрьме с большим бережением до нашего указу». Протопопа Кондрата Кузьмина и трех или четырех «пущих гилевщиков (то есть самых ярых бунтовщиков, преступников. – А. Б. )» следовало послать под конвоем в Москву27.
Ранее Б. А. Репнин приказал Трейдену отправить второго беглого сержанта Клима Федорова в Новгород для последующей передачи его в Олонец. Но волнения среди городского населения и солдат вынудили полковника отсрочить этапирование осужденного, «чтоб ево тож гили не отбили»28. В результате суд над Федоровым состоялся лишь в конце лета, он был повешен в Олонце 27 августа29.
Скорее всего, корни инцидента в Пскове следует искать в специфике восприятия иноземцев православными. Для этого обратимся к более ранним событиям. Известно, что еще в 1649 году на пути из Москвы в Заонежские погосты, то есть к местам своей действительной службы, подчиненные полковника Александра Гамильтона часто злоупотребляли своим служебным положением. На иноземцев, в числе которых был Христофор Трейден, брат будущего полковника Иоганна Трейдена, была составлена масса жалоб по маршруту следования полка. Местные жители обвиняли иноземцев в грабежах, вымогательствах, избиениях и насилии. При этом центральной властью виновные не были наказаны, хотя и было проведено следствие [1]. Чуть позже, в 1652 году, в Олонце происходили межконфессиональные конфликты, вызванные запретом православным находиться в услужении у неправославных. Т. А. Опарина отмечает, что в Олонце указ о невозможности службы православных денщиков у неправославных офицеров был интерпретирован как полное прекращение контактов с иноземцами, солдаты стали выказывать неповиновение командирам [7: 199–200]. Как указывает в своей статье А. С. Рыжков, непонимание и конфликтность между солдатским населением и иноземными офицерами проистекала из того обстоятельства, что последние оставались чуждым и пришлым элементом для крестьянского сообщества. Этому способствовали противоречия в вопросах административного подчинения солдат-крестьян, незнание большинством иноземцев русского языка, их иная конфессиональная принадлежность [9]. В более общем смысле можно сказать, что при взаимодействии местного населения и иноземных офицеров имело место столкновение культур. Что касается псковского мятежа 1662 года, то, как утверждает А. В. Малов, массовое сознание русских людей зачастую отказывалось признавать за иноземцами право казнить православного человека, даже с санкции царя. Виновником драматических событий, с точки зрения псковичей, был полковник Трейден, который к тому же ударил протопопа Кондрата Кузмина тростью [5: 122–123].
Произошедшее в Пскове, несомненно, является инцидентом из ряда вон выходящим, однако, если взглянуть шире на картину взаимоотношений солдат с властями, обнаруживается, что солдатское неповиновение прослеживается практически на протяжении всей истории олонецких полков. В 1651 году полковник Александр Гамильтон жаловался Алексею Михайловичу, что, несмотря на государев указ о том, что изготовление фитилей и ковка пик теперь являлись солдат- ской обязанностью, последние отказывались ее выполнять, не слушались своих непосредственных командиров – офицеров, а некоторые подстрекали товарищей к бунту30. В том же, 1651 году солдаты Вытегорского погоста ограбили капитана, взяв у него пороховую казну31. В декабре произошло нападение солдат Остречинского погоста во время набора их на службу на высыльщика поручика Томаса Спенсера, в результате чего его избили и ранили ножом32. В следующем, 1652 году полковник Мартин Кармихель сообщал, что местные крестьяне и солдаты ненавидят «начальных людей», упрямо с ними конфликтуют и время от времени нападают на офицеров [2: 178].
РОСТ МАСШТАБОВ ДЕЗЕРТИРСТВА
Деморализация личного состава олонецких полков «нового строя» в итоге стала одной из причин рассматриваемого мятежа в Пскове 1662 года. Событие, в свою очередь, вызвало резкую эскалацию конфликта между воинским командованием и солдатами. Это имело далеко идущие последствия, которые поначалу проявились в массовом дезертирстве солдат летом и осенью 1662 года. Практически сразу после разразившихся беспорядков, во время передислокации части полка Иоганна Трейдена из Пскова в город Остров из-под команды подполковника Христофора Трейдена «розбежалось салдат з дороги… дватцать человек с ружьем и со всем салдацким строем, взяв его, великого государя, денежное и хлебное жалованье»33. Б. А. Репнин, прибывший 1 сентября в Псков, когда ситуация с беглыми солдатами стала выходить из-под контроля, требовал у полковников и воевод, в том числе у Олонецкого воеводы Т. В. Мышецкого, более решительных действий для розыска беглецов. На дорогах создавались стрелецкие заставы для поимки дезертиров, но их деятельность была практически безрезультатной. Солдаты сбегали в свои деревни, где их укрывали родственники, некоторые подолгу скрывались в лесах [6: 134]34.
В продолжение лета – осени 1662 года из полка Иоганна Трейдена произошло еще три сравнительно крупных побега, на которые власти пытались отвечать более жесткими репрессиями. Упомянем один из них. 8 сентября из-под Опочки, сговорившись, бежало 16 солдат. Отрядом донских казаков, отправленным по горячим следам, было поймано 11 человек. Из расспросных речей видно, что солдат заставило дезертировать скудное продовольственное обеспечение: «А на подворье де у них осталось хлеба в кади немного». Далее по ходу допроса арестованные оправдывались тем, что якобы
«ротной дьячек Петрушка Микитин сказал им, что де которые салдаты были на государевой службе в полку у боярина и воеводы князя Ивана Ондреевича Хованского с товарищи, и тем де прислана государева грамота, а велено государева служба служить с переменой»
(то есть половина солдат находятся в действующей армии, половина – отпущена по домам)35. Солдаты расценили эту информацию как руководство к действию и совершили побег. В итоге беглые солдаты понесли довольно суровое наказание: двух человек должны были повесить по жребию, двух – прислать в Псков, остальных – «бить кнутом нещадно». Но одному из приговоренных к смерти, подзнаменщику Афонке Васильеву, удалось сбежать из-под караула, на что Репнин приказал: тому, «кто упустил колодника… сидеть ему в тюрьме до сыску того утеклеца (сбежавшего. – А. Б. )»36.
Судя по имеющимся источникам, более или менее решить проблему побегов в полку Иоганна Трейдена удалось только к концу октября. Всего за летне-осенний период (включая побег под предводительством Мирона Осипова и Клима Федорова) произошло 6 организованных побегов, в которых в общей сложности участвовало 127 бойцов, что для полка штатной численностью 538 человек37 является чувствительной потерей. Мятеж в Пскове повлек за собой масштабные побеги и из других полков, в результате которых подразделения лишились 506 солдат38.
Командованию Новгородского разряда не удалось до конца решить проблему дезертирства. В следующем, 1663 году побеги продолжились, порой еще более массовые. Так, при отправке солдат на государеву службу из Шуйского погоста сбежали сразу 302 человека39. Разлагающее влияние на войска оказал и набиравший обороты экономический и финансовый кризис. Падение курса медных денег вызвало перебои в продовольственных поставках, рост цен и отказ крестьян продавать хлеб за медь40. В целом социальная напряженность на протяжении первой половины 60-х годов лишь возрастала. Страшное опустошение хозяйств, голод, а также сплоченность крестьян вызывали риск масштабного восстания. В итоге олонецкие полки «нового строя» были расформированы незадолго до окончания Русско-польской войны в 1666 году [6: 138].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, отметим, что солдатские и драгунский олонецкие полки в целом справлялись с несением службы по охране русско-шведской границы. В то же время тяжелая и разорительная служба повлекла за собой различные осложнения, главным из которых стало массовое дезертирство. Жесткая и непоследовательная мобилизационная политика, невозможность удовлетворить челобитья солдат по вопросу возвращения к старой практике призыва по четыре месяца в году – эти факторы повышали накал и без того непростых отношений властей с солдатами олонецких полков. Дух коллективной сплоченности придавал побегам массовый характер. Ненависть солдат к иноземным офицерам, которая периодически перерастала в нападения на них, подливала масла в огонь. Не менее важным обстоятельством, побуждающим солдат к дезертирству, стала проблема продовольственного снабжения. В условиях нарастающего экономического и финансового кризиса, катастрофического обесценивания медных денег армия испытывала серьезные перебои с поставками хлебных запасов. Мятеж в полку Иоганна Трейдена и последовавшее за ними массовое дезертирство обнаруживают эти проблемы. Власти были не в силах оперативно решить назревшие вопросы, они ужесточали репрессивные меры, что усиливало рост общественной напряженности. Командование не могло в полной мере опереться в войне на ненадежные подразделения. Это привело в дальнейшем к упразднению олонецких полков, а в конечном итоге, уже в масштабах всей России, к отказу от милиционно-территориальной системы набора войска.
* Работа выполнена по госзаданию КарНЦ РАН. Номер регистрации темы: АААА-А18-118030190093-9.
CONFLICTS BETWEEN OLONETS SOLDIERS AND THEIR MILITARY COMMANDERS: REBELLION OF 1662*
* This research was conducted as part of the state task assigned to the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (project registration number АААА-А18-118030190093-9).
C i t e th i s arti c l e a s : Bochkarev A. S. Conflicts between Olonets soldiers and their military commanders: rebellion of 1662. Proceedings of Petrozavodsk State University . 2020. Vol. 42. No 8. P. 93–100. DOI: 10.15393/uchz. art.2020.553
Список литературы Конфликты олонецких солдат с воинским командованием: мятеж 1662 года
- Брусницына Д. В. Иноземные офицеры XVII в. - ценные специалисты на службе русского государства или "обидчики" подданных царя? // Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и инновации: Материалы VI регион. науч.-метод. конф. (22-23 ноября 2012 г.). Ч. I. Петрозаводск, 2012. С. 63-65.
- Брусницына Д. В. "Начальные люди" олонецких полков пашенных солдат (1649-1666) // CARELICA. 2013. № 1. С. 170-185.
- Жуков А. Ю. Управление и самоуправление в Карелии в XVII в. В. Новгород, 2003. 256 с.
- Курбатов О. А. Военные реформы России второй половины XVII века. Конница. М.: Квадрига, 2017. 301 с.
- Малов А. В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории. М.: Древлехранилище, 2006. 624 с.
- Мюллер Р. Б. Очерки по истории Карелии XVI-XVII вв. Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1947. 175 с.
- Опарина Т. А. Иноземцы в России XVI-XVII вв. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 384 с.
- Разин Е. А. История военного искусства: В 3 т. Т. 3. История военного искусства XVI-XVII вв. СПб.: Полигон, 1999. 736 с.
- Рыжков А. С. Офицер-иноземец: проблемы адаптации в местном крестьянском сообществе // Журнал отчетов и публикаций ИЛЛМИК. 2006. № 1-2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://illmik. petrsu.ru/news/New_Results/580443B3-5DAA-432C-A9F1-38CDF53DF7C4.html (дата обращения 03.05.2020).
- Чернов А. В. Вооруженные силы Русского Государства в XV-XVII вв. М.: Воениздат, 1954. 224 с.